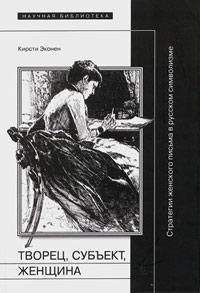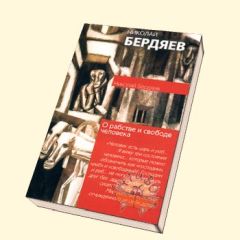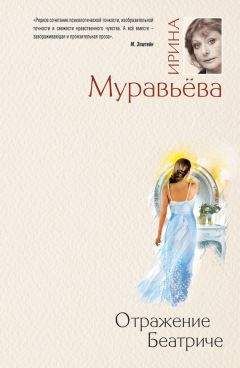the only way to position oneself outside of that discourse is to displace oneself within it — to refuse the question as formulated, or to answer deviously (though in its words), even to quote (but against the grain).
(de Lauretis 1982, 7)
На мой взгляд, те теоретические положения, которые выдвигают в своих работах М. Ле Дефф, К Баттерсбай, М. Хомане, Э. Лаутер, Дж. Фетерлей и Т. де Лауретис на основе исследования западноевропейской культуры, можно применить также при изучении вопроса о женском творчестве и женском авторстве русского раннего модернизма. Я исхожу из того, что авторы-женщины русского символизма используют мифологический материал и метафорику из собственного эстетического дискурса. Поэтому анализ образных выражений отдельных произведений является важнейшим методом в изучении авторства и авторских позиций.
Я исхожу из того, что художественные тексты авторов-женщин включают в себя стратегии конструирования авторства и включения в дискурс (или исключения из него). При изучении стратегий особенно важными являются те феминистские работы, в которых рассматриваются различные стратегии женского «agency». В первую очередь это теория Л. Иригарэ (Irigaray 1985-а, 1985-b, 1993) с ее понятием миметической стратегии (мимикрия, см. об этом подробнее в гл. 5 моей книги). Также интересными представляются исследования Г. Спивак (Spivak 1988) и X. Баба (Bhabha 2004), которые пишут с постколониальной позиции и в которых обсуждаются возможности для самовыражения и самоконструирования подчиненной группы. Общим для феминистских и постколониальных теоретиков является выделение миметической стратегии как способа превращения объектного положения в позицию субъекта. В число общих стратегий можно еще добавить «displacing, cultural resistance, destabilizing and finally altering the meaning of representations» («откладывание, культурное сопротивление, расшатывание, смена значений репрезентаций», о которых говорит де Лауретис (de Lauretis 1982, 3, 7). Так как в данной работе речь идет о литературе, важно учитывать мысль де Лауретис о том, что процессы написания и прочтения являются формами культурного сопротивления:
Strategies of writing and of reading are forms of cultural resistance. Not only can they work to turn dominant discourses inside out (and show that it can be done), to undercut their enunciation and address, to unearth the archaeological stratifications on which they are built; but in affirming the historical existence of irreducible contradictions for women in discourse…
(de Lauretis 1984, 7)
Высказывание де Лауретис гипотетически позволяет предположить, что проблема субъекта в целом (а не только женского творческого субъекта) затронута в текстах авторов-женщин русского символизма. По словам П. Во, в Западной Европе начала XX века многие авторы-женщины (в том числе В. Вульф), рассуждая о социальном и творческом субъекте, высказывали мнения, которые затем стали частью постмодернистского понимания о релятивности и нецелостности субъекта (Waugh 1989, 91–95). Опираясь на это высказывание, позволю предположить, что в русской культуре происходило то же самое.
3. КУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ РУССКОЙ СИМВОЛИСТСКОЙ ГЕНДЕРНОЙ ЭСТЕТИКИ
Чтобы описать гендерный порядок символистской эстетики, необходимо очертить тот культурный контекст, в котором он возник. Обсуждая культурный фон символизма, важно не столько установить истоки этого явления, сколько учесть то, что дискурсы «взаимопроникаемы»: они могут брать из других дискурсов материал, затем соединять полученный результат и включать в себя как часть собственного дискурса (Hall 1999, 100). Как неомифологическому явлению, символизму присуще восприятие и дальнейшее переосмысление различных культурных традиций. На конкретном материале символистского художественного творчества отмечается, например, смешение античной мифологии с современными для символизма повседневной культурой и бытом (Минц, Безродный, Данилевский 1984). По такому неомифологическому принципу в символистском эстетическом дискурсе кодируются и перекодируются также гендерно маркированные концепции. Многие черты гендерного порядка характерны для всей западной культуры. Вместе с тем русская метафизическая философия так сильно влияет на гендерный порядок, что гендерная эстетика символизма проявляется как своеобразное и самостоятельное явление, не имеющее прямого эквивалента в западной культуре того же времени. Ниже следует краткая характеристика четырех наиболее важных источников — контекстов для формирования гендерной эстетики русского символизма. Это:
1). традиция романтизма и особенно категория «ewige Weiblichkeit»;
2). философия Владимира Соловьева и особенно его идеи о «Вечной женственности» и синтезе;
3). пол, гендер и сексуальность в культурном контексте западноевропейского модернизма;
4). феномен «новой женщины».
Как неоромантическое направление, символизм имеет много общих черт с романтизмом, особенно с его идеалистической философией, доминированием категории творческого субъекта и акцентированностью категории фемининного[33]. Романтическая философия, психология и понимание языка, выделенные, например, в исследовании Л. Будуан «Resetting the Margins» (Beaudoin 1997), во многом аналогичны мировоззрению русского fin de siècle. Поэтому результаты исследований романтической литературы нередко можно «перенести» на явления культуры русского fin de siècle. Например, высказывания А. Меллор (Mellor 1993, 28) в книге «Romanticism a Gender» о женском авторстве и гендерном порядке романтизма могут характеризовать также взгляды большинства русских символистов. Меллор, например, утверждает, что, несмотря на интерес романтических поэтов к женщинам, они никогда не создавали таких утопий, где женщины были бы самостоятельными, самобытными и, вместе с тем, респектабельными авторами (см.: Mellor 1993, 28).
* * *
Схожим образом многие результаты исследований русского романтизма совпадают с результатами изучения символизма. В качестве примера из сферы изучения русской литературы я приведу статью Юдит Ваулс «The ‘Feminization’ of Russian Literature: Women, Language, and Literature in Eighteenth-Century Russia». Ваулс показывает, как фемининность и женщины в контексте русского сентиментализма тесно связаны с развитием поэтического языка[34]. В противовес классическому, ломоносовскому, стилю в романтической литературе появлялся «женский слог» — эмоциональный язык, подходящий для легких жанров и любовной темы. Ваулс указывает также на важность фемининной чувствительности для творческого субъекта, но приходит к выводу, что потребителями этого «женского» языка были чаще всего авторы-мужчины (Vowles 1994, 38–40). Ее вывод подтверждается высказыванием Меллор (Mellor 1993, 27) о том, что романтический творческий субъект заимствует такие фемининные качества, как, например, чувствительность, импульсивность, и ассимилирует фемининность с маскулинным субъектом[35].
Помимо частых совпадений в эстетике и в литературной практике романтизма и символизма, важно учитывать также совпадения в формах мышления. Эти совпадения делают возможным характеристику обоих течений в рамках сходных теоретических концепций. Например, Меллор акцентирует внимание на понятиях полярности и бинарных оппозиций романтической традиции.
Она говорит о расколе между субъектом и объектом («а split between the subject and the object») (Mellor 1993, 19), который проявляется в гендерно маркированной полярности творящего маскулинного субъекта и воспринимающего фемининного объекта[36]. Фемининность объекта соотносится также с отождествлением женщин с природой — с концептом, одинаково важным (хотя и не идентичным) для романтической и для символистской эстетики. Как показывают антропологи М. Стратерн и К. Мак Кормак в книге «Nature, Culture and Gender» (Marilyn Strathern and Carol Mac Cormac 1980), в западной культуре оппозиция культуры и природы воплощается в оппозиции маскулинного и фемининного, причем фемининная природа и телесность связываются с немотой, а маскулинная рациональность и абстрактность обозначают активность. Далее, как показывает Меллор, бинарная модель ведет творческого субъекта к солипсизму (Mellor 1993, 20) — к тупиковой ситуации модернистского автора[37].
Несмотря на то что многие из тех функций фемининного, которые я рассматриваю ниже, можно обнаружить в романтизме и сентиментализме, все же гендерный порядок символизма нельзя назвать точным копированием романтизма. Русские символисты, как утверждает И. Паперно, пользовались литературой эпохи реализма как одним из источников своей неомифологической эстетики (см.: Paperno 1994, 22).
Рассматривая явление жизнетворчества в романтизме и символизме, Л. Гинзбург (Гинзбург 1999, 25) отмечает: романтическое уподобление жизни искусству основывалось на том, что в самой жизни была отвоевана сфера идеального, непроницаемая для низкой действительности. В символизме, пришедшем после реализма, жизнетворчество не могло «отряхнуть прах повседневности» и, как утверждает Гинзбург, поэтому оборачивалось гротеском, «мистическим шутовством». Трансформация романтической гендерной модели в символизме касается также гендерно маркированной категории природы. Постромантические идеи Вл. Соловьева и Н. Федорова о преодолении природного начала также были значимы для символистов в вопросе противопоставления природы и культуры. Для символистов природа больше не является моделью творчества, а творчество возвышается над природой: символистский творческий субъект волею своей индивидуальности творит аналогично тому, как Бог творил природу.