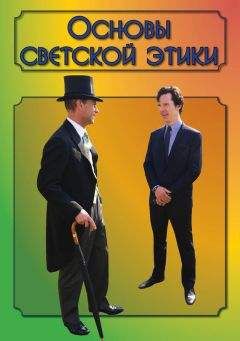2. В качестве ближайшей цели поступка нами всегда мыслится и желается будущее действительное состояние реальных сущностей, которое может быть произведено или прямо и исключительно нашею деятельностью или при посредстве и соучастии других причин, – будь это будущее состояние состоянием нас самих или же состоянием других людей и окружающего мира. Даже в тех случаях, когда цель моего хотения ограничена пределами меня самого, – как это бывает при попытках вспомнить забытый факт, разрешить научную задачу или при намерении быть впредь осторожнее, – объектом, на который направлено мое хотение, все же является реальный результат, действительно наступающее в будущем состояние моего «я», которое, по моему убеждению, может быть произведено мною при помощи определенных действий (как внутреннее поведение эти действия, ради краткости, могут быть подведены под понятие поступка в широком смысле).
Только надежда произвести этот результат дает толчок моей деятельности; интерес ко всякому волевому действию в широком смысле обусловливается осуществлением цели и наступающим вследствие этого реальным изменением. Внушить человеку, что результат должен быть ему безразличен, и что он должен успокоиться на сознании способности чистого хотения служить мотивом вообще, это значит сделать хотение невозможным. Конечно, критерием нравственной оценки поступка должно являться намерение, а не действительный результат, так как, помимо намерения, последний зависит ведь еще и от других условий; однако само это намерение является все же не простой игрой фантазии, а серьезным хотением достичь определенного результата. Правда, благодаря неверному учету средств и обстоятельств результат часто не соответствует намерению, но все же это – исключение из того нормального соотношения при хотении, на которое прежде всего должно направляться внимание теории. Кто не достигает своей цели, тот может, конечно, утешаться тем, что in magnis voluisse sat est или чем-либо подобным; кто, руководствуясь добрым намерением, причинил несчастье, тот вправе оправдываться своей доброй волей, хотя часто остается еще вопросом, вполне ли непричастной такому результату была неправильная оценка обстоятельств. Пусть в прискорбных случаях неудачи такая индивидуальная нравственная оценка отдельного поступка правильна. Все же на этом нельзя строить общего принципа для всякого хотения вообще, потому что таким образом уничтожалось бы всякое разумное побуждение к хотению. Этическое исследование не может принимать за исходный пункт несовершенство наших действий, обусловленное плохим расчетом: оно должно отправляться от того смысла, который изначально присущ хотению.
«Добрая воля добра исключительно благодаря хотению, а не тому, что она производит или исполняет. Если бы даже эта воля была совершенно лишена способности доводить до конца свое намерение, если бы при ее величайшем стремлении все же ничего не было исполнено, а оставалась бы одна только добрая воля, то и тогда она сама по себе сверкала бы, как драгоценный камень». Эти положения, по-видимому, неоспоримы. Однако, все же добрая воля должна хотеть какого-нибудь результата, и сам Кант, требуя от доброй воли «применения всех средств, какие только есть в нашей власти», признает, что воля направлена на действие, и лишь в том случае является доброй волей, если всеми силами старается произвести результат, а это значит: если переходит в подлинный поступок. Вследствие этого выставляемое далее Кантом требование, чтобы предмет хотения не оказывал никакого влияния на волю, что я, например, «должен стремиться содействовать чужому счастью, вовсе не интересуясь ее осуществлением», – это требование попросту невыполнимо: оно требует воли, которая не хочет того, чего она хочет. Равным образом, я никогда не могу хотеть общего, как такового, а всегда лишь общего, осуществляющегося в ряде единичных случаев. В конечном итоге я всегда хочу конкретного результата, хотя бы этот результат состоял только в определенном виде моей собственной деятельности.
Кто последовательно стремится к тому, чтобы действительно изгнать из этики внимание к результату, тот должен взять за образец расслабленного и не в праве претендовать на подчинение своим предписаниям живого творчества и живой работы.
Подобно болтунам,
Играющим хвастливо в добродетель,
Героям на словах, я не могу
Разогревать себя своею волею
И мыслями. Пусть только перестану
Я действовать – и уничтожен я16.
Слова Валленштейна не есть одно лишь выражение мощного властолюбия отдельной личности. Вообще говоря, они являются буквально точным означением человеческого хотения в целом и в общем. Человек существует не благодаря своему хотению, а благодаря производимым им реальным действиям; когда человек не действует, он уничтожается.
С этим не стоит в противоречии тот факт, что всякое этическое веление может быть применено только к рассудку и уже с помощью рассудка к воле, и что прямо оно может требовать только определенного хотения, как если бы его цель изначала состояла во внутреннем хотении, в намерении. Это делается всегда в предположении, что намерение осуществляется, и что хотение действенно. Этическое веление касается внутренней основы поведения, с тем, чтобы из нее вытекли естественные и нормальные последствия, а вовсе не полагает хотения без осуществления.
3. Всякая цель, какую только я вообще могу хотеть и какую способен осуществить своими силами, должна быть такою, чтобы ее осуществление сулило мне каким-нибудь образом удовлетворение, и чтобы мысль об этом удовлетворении так действовала на мои чувства, что ожидание осуществления доставляло бы мне радость, а боязнь неосуществления причиняла бы страдание. Я не могу сделать предметом моего хотения то, что мне совершенно безразлично, осуществление чего для меня не представляет никакого интереса и существование чего мне нисколько не дороже, чем несуществование. Напротив, единственным мыслимым мотивом хотения является такое отношение ко мне сознаваемой мной цели, при котором она является для меня благом. Этим вовсе не утверждается, что желанная цель непременно должна быть моим личным состоянием, и что, когда я хочу чего-нибудь, то в качестве конечного результата имею в виду только свое будущее удовольствие. Завещатель, жертвующий некоторую сумму для общеполезных целей, может и не желать, – если только он не рассчитывает на небесную награду, – личного наслаждения от последствий своего поступка. Его действительное переживание может сводиться только к предвидению результата, фактическое наступление которого не касается его лично; однако мысль произвести этот результат удовлетворяет его, и потому он желает его и делает то, что способно его обеспечить.
Совершенно и во всех отношениях бескорыстное хотение есть вещь невозможная. Вполне правы те, которые настаивают, что, по здравом рассуждении, порождение состояния, от которого никто ничего не выгадывал бы, и которое ни в одном существе не возбуждало бы чувства удовольствия, никогда не может быть целью. Но если к этому прибавлять, что человек не в праве стремиться к собственному удовлетворению, а должен заботиться только о счастье других, то такое требование будет уже недопустимым. По своей природе человек не может действительно хотеть того, что не давало бы удовлетворения его собственному личному чувству; в каждом хотении он хочет в некотором смысле себя самого, своего собственного благополучия. Я могу хотеть того, что ни в каком отношении не является для меня благом, не только потому, что оно будет благом для других, а потому также, что в силу названной причины желаемое мной и для меня обладает понятной и ощущаемой ценностью. В этом смысле должно утверждать, что в каждом человеческом хотении содержится не только эвдемонизм, т. е. отношение к чувству удовольствия вообще, но и эгоизм, т. е. отношение к чувству собственного личного удовольствия. Человек совершенно не в состоянии решать в пользу таких целей и направленных на осуществление их поступков, которые не стоят ни в каком отношении к его личному чувству.
Даже бескорыстнейшее и чистейшее самопожертвование для счастья других или для идеальных интересов все же содержат это отношение к нашему я. Приносящий, по мнению других, такую жертву, сам обыкновенно вовсе не придает своему поступку такого значения, ибо цель, ради которой он выступает, ему гораздо дороже, чем свое довольство или своя жизнь; то, что он совершает, он совершает в такой же мере ради себя самого, как и ради других. Кто же ощущает свою жертву именно как жертву, и много говорит об этом, тот, вероятно, оказывается в таком положении, когда остается только выбор между двух зол, и он выбирает для себя меньшее. А откуда же ему черпать силы даже для совершения меньшей жертвы, как не из чувства большей выгоды, которую он таким образом получает? Не бывает таких случаев, чтобы я раньше делал некоторую цель своею, а затем уже радовался при удаче и печалился при неудаче. Что не гармонирует со мною и с моим чувством, то никогда не станет моей целью.