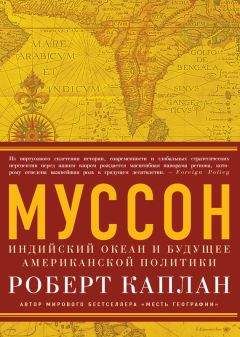«Нам бы освободиться от материка – и мы бы выросли за несколько дней, и сыны Занзибара вернулись бы домой со всех индоокеанских побережий, ибо истинную историю нашу пишут ветры-муссоны», – сказал, беседуя со мной, шейх Салах-Идрис Мохаммед. Шейх – историк, его маленькая квартира похожа на музей, полный фотоснимков прежних оманских султанов и тщательно вычерченных родословных древ. Всюду разбросаны желтеющие и понемногу плесневеющие книги, карты, рукописи, относящиеся к эпохе, предшествовавшей 1964 г. Угощая меня кофе, который он изрядно сдобрил имбирем и гвоздикой, шейх посетовал: «Здесь вообще нет никакой демократии. Вот в Америке вы избрали Обаму – чернокожего! – президентом. Это зовется демократией!»
Я попытался ободрить его. Сравнительно с более ранними, постколониальными временами 1960–1970-х соображения расы и революционной идеологии, сдается, отступают на второй план. Существовавшая общественная подвижность благоприятствовала все более жизнеспособной оппозиции, равно как и соприкосновения с окружающим миром – посредством торговли и туризма. Уверен: государства Персидского залива, Индия, Китай, Индонезия не смогут развиваться достаточно быстро, если Восточная и Южная Африка не станут в конце концов единым пространством, подвергнувшись положительному влиянию. Арабы понемногу просачиваются назад, на Занзибар, и новая волна глобализации способна вернуть острову то, что он утратил, – причем без угнетения, которое привело к революции и сопутствовало ей.
В любом случае, оставаясь рубежом и преградой, Восточная Африка находится в критическом положении: ее дальнейшее полноправное участие в торговой системе, существующей на севере Индийского океана, сделало бы эту систему (куда непременно должна войти еще и Восточная Азия) настоящим, бьющимся сердцем мира, образующегося в XXI в. Никакой великой державе – даже Китаю – не удалось бы завоевать приморские области всего Восточного полушария; но торговой системе это под силу. Такая торговая система стала бы своего рода отдельной державой, успешно соревнующейся с Европейским союзом и Соединенными Штатами. Занзибар, имеющий старинные космополитические традиции, вправе дожидаться этого часа наравне со всеми остальными странами.
Никто и никогда не помогал мне понять Африку и весь мир Индийского океана так, как помогли романы Абдул-Разака Гурны, родившегося на Занзибаре в 1948 г. и ныне преподающего литературу в Англии. В его книгах Занзибар предстает «наспех сколоченным плотом, застывшим у самого океанского краешка» – хлипким и невзрачным, международным и захолустным [8]. Это земля, населенная чернокожими африканцами, сомалийцами, оманцами, белуджами, гуджаратцами, арабами и персами, глядящими на одни и те же улицы и берега разными глазами. У всех различные судьбы, личные, семейные и общенародные воспоминания. А ислам – нечто общее для всех, подобно воздуху, которым дышит каждый. Так или иначе, торговля и муссонные ветры пригнали всех к одним и тем же берегам. «Для того и живем на земле, – заявляет один из персонажей Гурны. – Для торговли!» Отправляться в глубь острова или материка, ища товаров; доставлять их к побережью; странствовать по ужасным пустыням и непролазным лесным чащам, чтобы вступить в торговую сделку с «царьком или дикарем… Нам все едино» [9]. Торговля приносит мир и процветание. Торговля отлично уравнивает народы и государства; она препятствует войнам больше всего остального.
В художественном представлении романиста космополитическое население Занзибара – итог расставаний и разлук, тягчайших утрат. Ибо торговля предполагает наличие возможностей и свободу передвижения – это разрывает семейные связи навеки. Как выразился иной персонаж, «подобная боль не угасает… ничто настолько значительное окончиться не может» [10]. Еще один герой, мальчик-подросток: его забрали от родителей, чтобы покрыть накопившийся долг – и обучить доходным навыкам торговли. Много лет спустя мальчик удивлялся и гадал, помнят ли о нем родители? Живы ли они? – и ясно понимал: ему не хочется знать подлинной правды. Вместе с тем герой страдает, «оглушенный чувством вины: ему не удалось удержать память о родителях свежей и нетронутой» [11].
Столь глубокое чувство утраты отчасти смягчается новыми впечатлениями и переживаниями героев, неотвратимо продолжающих удаляться от тех, кого они любят. Этот печальный и прекрасный мир, мир вечных расставаний и плаваний на фелуках – Камоэнс и Гурна рассматривают подобные путешествия совсем по-разному – делается еще трагичнее из-за колониального наследия. Типичный герой Гурны – молодой восточноафриканский студент, ведущий в Англии незаметную жизнь, потерявший всякую надежду снова увидеть родных и близких, нигде не чувствующий себя дома. Отзываясь об англичанах, один из таких персонажей замечает: «До чего же может леденить и унижать пристальный взгляд голубых глаз!» [12]. Пусть имперская держава и старается блюсти высочайшие традиции справедливости и свободы, сами отношения между колонизатором и теми, кого он угнетал, приводят к жестоким недоразумениям, порождая в туземцах чувство холопской приниженности.
Гурна еще более безжалостен к постколониальному падению собственной земли – это усугубляет унижения, испытываемые его героями и персонажами. Варварство, подобное революции 1964 г., предстает неминуемым следствием независимости. «Мы и привыкнуть не успели к [новому] флагу», а уже начались «убийства, изгнания, аресты, изнасилования – что угодно». По улицам шатаются банды. Имеется местный диктатор, даже «мельчайшей возможной подлостью не брезгующий», пока самого не скосят автоматные очереди «злобных негодяев» – прозрачный намек на Карумэ [13]. И приходят мелкие «невзгоды и лишения», порожденные самостоятельностью: заколочены общественные уборные, электроэнергия и вода подаются лишь несколько часов ежедневно. Исторически памятные дома, сберегавшиеся англичанами в неприкосновенности, «обращаются притонами». Безобразия множатся и множатся.
Гурна пишет: «Мы не способны что-либо сделать собственными руками – ничего неотъемлемо нужного или просто важного: ни куска мыла, ни пакетика бритвенных лезвий» [14].
После ухода британцев этот предположительно космополитический мир Индийского океана – мир смешанных браков, мир индийцев, арабов, персов и чернокожих африканцев – не сумел создать себе лучшей жизни. Его разрывают на части кипящая нетерпимость и расизм, выплывшие на поверхность как неизбежное следствие постколониальной независимой политики. Колониализм, разодравший ткань исконной островной культуры, оставил ее уязвимой для всякой мерзости – местной или привнесенной извне. Об остальном позаботилась независимость. Это походит на живой организм, лишившийся всякого иммунитета. Согласно автору, «постколониальные условия» похожи на прогулку, совершаемую «без дела и без цели» [15].
И все же в какой-то точке пути идущему откроется верное направление, ибо постколониальный период непременно должен перейти в новую эру – эру, с которой мне выпал случай познакомиться во время путешествий. Глядя на мириады лиц и различные цвета кожи, я понимал: за спиной у каждого лежит семейная история прощаний и расставаний, борьбы и самоотречения. Чего же ради? – «Ради торговли».
Гурна способен многому научить. «Воображение – разновидность истины», – пишет он: поскольку воображение позволяет вам представить себя на месте другого человека. Чем больше вы пользуетесь воображением, тем больше разумеете: я знаю очень мало. И понимаете: «Быть чересчур уверенным в чем бы то ни было – начало лицемерия» [16].
Из Каменного города мне пришлось ехать на машине к юго-восточной оконечности Занзибара, к приморскому городу Макундучи, целых полтора часа. Был конец июля, близился ширазский праздник Мвака Когва – начало нового зороастрийского года, уже давным-давно вошедшее в культуру африканского люда, говорящего на языке суахили. Предание гласит: ритуальная схватка очистит местных жителей от всех дурных помыслов и чувств, накопившихся за год.
На любом открытом пространстве со всех сторон собираются и строятся длинные шеренги бойцов, громко распевающих воинственные песни. Африканцы облачаются во что попало: во всевозможные обноски, включая даже шубы из искусственного меха, старые мотоциклетные шлемы и строительные каски, драные лыжные шапочки. Некоторые мужчины одеваются в женские платья, а привязанные к груди кокосовые орехи дополняют маскарад. В каждой бойцовской руке зажато грозное оружие – банан. Позади тащатся мальчики-малыши. Атмосфера накаляется, будто и в самом деле предстоит нешуточное побоище. Затем вспыхивают первые поединки. А там начинается и всеобщая свалка, сражение закипает по всему фронту, а толпы зрителей шарахаются вправо и влево, чтобы воины ненароком не затоптали ротозеев. Пыль вздымается облаками. Изнурительная битва длится ровно час, потом отовсюду сбегаются поющие сельчанки в цветистых ханга. Потасовка стихает, разгорается костер – и персидский праздник, отмеченный африканцами, завершается.