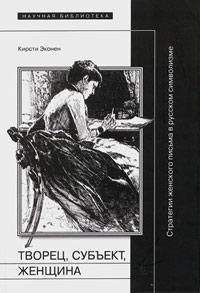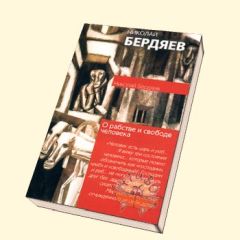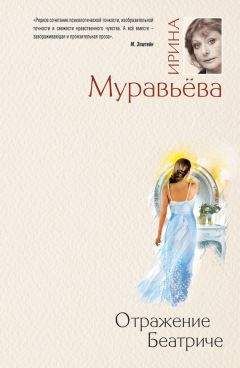Брюсов в это время выпустил сборник стихов «Stephanos» и роман «Огненный ангел». Он сам вспоминает:
Для меня это (1904–1905 годы, самый интенсивный период любовных историй Брюсова и Петровской. — К.Э.) был год бури, водоворота. Никогда не переживал я таких страстей, таких мучительств, таких радостей. Большая часть переживаний воплощена в стихах моей книги «Stephanos». Кое-что вошло в роман «Огненный ангел».
(Лавров: Брюсов и Петровская 2004, 12)
По точному замечанию И. Паперно (Паперно 1999, 56–57), отношения Брюсова и Петровской были сконструированы то по модели Орфея и Эвридики, то по модели Антония и Клеопатры. В образе Клеопатры (Петровской), описанной Брюсовым-поэтом «страстной, экзальтированной и не умеющей владеть своими страстями» женщиной (Паперно 1999, 57), воплощено понимание женщины как выразителя бессознательных, хаотических и сексуальных сил.
Здесь она вступает в оппозицию О. Вейнингеру, который несколько лет назад критиковал современную ему культуру за излишнюю фемининность.
Прекрасным примером интереса символистов к «женскому языку» является статья И. Анненского «О современном лиризме» (Аполлон 1909: 3, 5–29), в которой автор рассматривает женское творчество, а также характеризует язык авторов-женщин как магический, потусторонний, сильный и мистический. Анненский не ставит под вопрос возможность женщин выражать мысли и чувства своим языком, отвечающим эстетическим требованиям символистского поэтического языка.
На эту тему пишет также де Лауретис: De Lauretis 1984, 18–20.
Светлана Бойм исследует вопрос о гениальности, талантливости и о женском авторстве, приводя пример Мандельштама, который считал невозможным воплощение гениальности в женском теле: «The major lack of the poetess, ciphered in Mandelstam’s expression „man’s force and truth“, the lack that she hides behind the manneristic folds of her dress, can be defined in literary terms as a lack of genius (…) The poetess is by definition not a genius; she is a sort of literary nouveau riche who lacks the genetic blue blood of the artistic aristocracy. Genius is a sign of genetic artistic superiority, crucial to the genesis of „true“ poetry and available to one gender only» (Boym 1991, 195).
См. ст.: Nochlin 1993, а также: Beaudoin: 1999, 42–43.
«…[П]роизведение искусства — чудо брака, в страстной взаимной любви совершающегося между человеческим духом и мировой Душою…» — цитата из переписки В. Иванова и Э. Метнера (Переписка из двух миров // Вопросы литературы 1994. № 3. С. 315) выявляет многогранность комплементарной метафоры.
В рассмотренных выше статьях В. Иванова «О существе трагедии» и «О достоинстве женщины» женщина представлена как источники обладательница «стихийной», дионисийской силы, которая необходима для человечества и культуры (которые Иванов понимает как маскулинные и мужские занятия). С другой стороны, Иванов, говоря о раздвоении первоначального единства и мужеженствснном характере Диониса, указывает на идеал андрогинности (Иванов 1995, 95).
Эротическое чувство считалось важным не только для достижения художественных, но и для достижения религиозных целей. Например, З. Гиппиус считала, что физическая любовь способствовала контакту с духовной трансцендентальностью; см. рассказ «Сумерки духа» (см. об этом: Пахмусс 2002, 46).
См., например: Praz 1970 и Heilbrun 1973. См. также материалы, вошедшие в книгу: Fin de Siècle 2000, особенно переиздание статьи: Carpenter Edward. «The Intermediate Sex» (1894).
Кроме основополагающих статей О. Матич (Matich 1974/75, 1979-а и 1979-b), проблематика андрогинности в раннем русском модернизме поднимается также в исследовании: Rippl 1999, использующем понятие «Кип-stlergeschlecht», говоря об андрогинности и о третьем поле (см.: Rippl 1999, 28). Эта же тема исследуется в книге К. Бинсвангер, посвященной творчеству Поликсены Соловьевой (Binswanger 2002).
Андрогинность была не только средством достижения гармонии и синтеза противоречивостей, но и содержит также их столкновение. Как отмечает Ханзен-Лёве, центральная тема символистской поэзии — самоизображение мифопоэта как рационально-иррационального двойственного существа, воплощающего в своем лице полярную противоречивость художественного (Ханзен-Лёве 2003, 18).
Об андрогинности в русском модернизме см. также: Matich 1979-а, 1979-b, 2005, 71–77. Об андрогинности Гиппиус см., кроме Матич: Kelly 1994, 169; Ebert 1992, 25. Об этом же мотиве у В. Вульф см.: Showalter 1984, 263–297.
См. также обсуждение (Parente-Capkova 2001, 226) темы андрогинности на материале финской и западноевропейской культуры начала XX века. Автор приходит к выводу, что позицию творческого субъекта занимает именно эмпирический мужчина.
Подобным образом, как показывает А. Меллор, феминизированное письмо романтизма стало пространством конструкции гендера: «the feminized novel was in fact the site of a powerful struggle over the very consturction of gender» (Mellor 1993, 10).
Дендизм стал популяренв России лишь в 1910-е годы. Появился, например, журнал «Денди» (1910), в 1912 году вышел перевод книги Барбе д’Оревильи о дендизме — «Дендизм и Джордж Брэммель» — со вступительной статьей М. Кузмина. Во Франции книга прадекадента д’Оревильи представляла собой мистификацию жизненной истории первого денди — Джорджа Брэммеля (Браммеля), — важную для культуры fin de siècle.
Р. Фельски (Felski 1995, 92–93) утверждает, что феминизированный мужчина не является субверсивным по отношению к патриархатному гендерному порядку, а, наоборот, укрепляет те гендерные иерархии, которые якобы ставит под сомнение.
Например, А. Блок относился к дендизму отрицательно. В статье «Русские денди» (1918) он рассматривал Валентина Стенича как символ дендизма. Само явление дендизма он считал профанацией символистских идеалов. За резко отрицательным отношением Блока к дендизму, как показывает Вайнштейн (Вайнштейн 2005, 524), кроется утрирование и доведение до абсурда ранних идеалов самого автора. Можно полагать, что Блок так резко реагировал на Стенича именно потому, что обнаружил в нем отрицательные стороны своих собственных идеалов.
Отношение символистов к репродукции и к одухотворению «плотского» является весьма амбивалентным. Особенно это относится к Мережковскому и Гиппиус, которые искали соединения духа и плоти в своей философии «третьего завета», но в то же время высказывали аналогичные Бердяеву (и Платону!) идеи возвышения плотского до идеального.
Не все представители раннего модернизма поддерживали платоновскую идею. Против платоновского взгляда о сублимации выступил, например, М. Волошин в статье «Пути Эроса» (опубликована в его кн.: Из литературного наследия. СПб.: Алетейя, 1999. С. 13–38), представляя «платоновскую лестницу» двусторонней в качестве средства одухотворения плоти (сексуальности) и воплощения трансцендентального.
К. Баттерсбай (1989, 63) показывает, что идея гениальности воплощает последовательную связь дедушек, отцов и сынов.
Ориг.: Вл. Соловьев, ст. «Женский вопрос» (1897).
Тут возникает связь с категорией фемининного как подсознания, как «семиотического».
«As the nineteenth century drew on, however, the metaphors of male motherhood became commonplace — as did those of male midwifery. The artist conceived, was pregnant, laboured (in sweet and pain), was delivered, and (in an uncontrolled ecstasy of agonised — male — control) brought forth. These were images of „natural“ childbirth that the male creators elaborated. (…) The tendency to promote the artist as a male mother reached its apogee in the writings of Friedrich Nietzsche».
(Battersby 1989, 73–74)
См. также: Showalter 1990, 77–78; Naiman 1993.
Идея преодоления природы и сексуальности широко и разносторонне исследуется в книге О. Матич «Erotic Utopia» (Matich 2005).
С. Стэнфорд Фридман приводит также примеры субверсивного использования репродуктивной метафорики. По ее утверждению, «women’s use of the childbirth metaphor demonstrates not only a „marked“ discourse distinct from phallogocentric male use of the same metaphor but also a subversive inscription of women’s (pro)creativity that has existed for centuries» (Sranford Friedman 1989, 74).
В этом точка соприкосновения с гностицизмом. См.: Koivunen 1993 82–83.
Идеал преодоления природы и репродукции отразился также в конкретном жизненном выборе авторов-женщин символизма: за исключением Зиновьевой-Аннибал, они предпочитали бездетность. Традиционный брак также был поставлен под сомнение, и вместо семьи авторы-женщины нередко предпочитали любовные или псевдоэротические отношения с представителями обоих полов. С другой стороны, среди авторов-женщин символизма можно обнаружить интерес к детям, проявляющий себя в традиционной женской области — в детской литературе. Яркий пример — деятельность П. Соловьевой и Н. Манасеиной. Они издавали детский журнал «Тропинка», в котором принимали участие чуть ли не все авторы символизма.