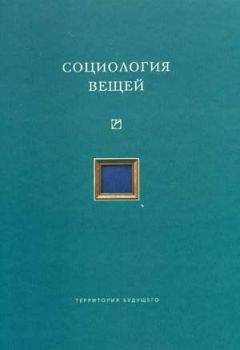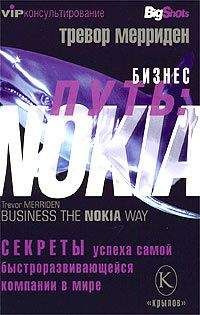Далее, следящие за этим радиошоу опытные слушатели начинают понимать, что личность, изображаемая каждым исполнителем на протяжении нескольких ролей, сама может быть целиком притворной или, по меньшей мере, приспособленной к тому, чтобы усилить впечатление от себя как типичного воплощения одного из возможных образов жизни. И в самом деле, более пристальное изучение таких радиовоплощений показывает, что и в этом случае имеет место нечто подобное ранее упомянутому кукольному шоу, поскольку оказывается, что весь радиоспектакль разыгрывается тремя или четырьмя реальными исполнителями, каждый из которых изображает двух или более персонажей из списка действующих лиц. И те особенности личности, которые исполнители доносят до слушателей через отображение характеров своих персонажей, сами оказываются притворными, инсценированными. Это еще раз напоминает нам, что живое ощущение человеческой сущности исполнителя каким-то образом порождается заметной рассогласованностью между его ролью и характером-персонажем, который он представляет другим людям, причем такая рассогласованность сама может быть сфабрикована ради производимого ею эффекта. Если это верно для восприятия контрастов между ролью и характером-персонажем, то что сказать о контрастах между конкретным лицом (человеком) и исполняемой им ролью?
Обратимся теперь к беллетристике: роману, повести и рассказу. Как предполагается, писатель волен выбирать степень своего открытого присутствия в тексте: он может ясно высказываться устами конкретного персонажа-характера и, если захочет, вводить некий безличный неперсонифицированный голос, произносящий сквозной сопроводительный комментарий, который может быть только его собственной «авторской речью». Подобно тому как манера и содержание речей персонажей передают образы их личностей, так и манера авторской речи и вообще решения писательских задач, по всей видимости, передают образ личности и мыслей автора. Поэтому важной частью всего, что читатель выносит из чтения того или иного произведения, оказывается опыт контактирования с его автором-писателем. Ибо автор этот предстает (да и должен быть таковым в действительности, иначе его бы не очень-то читали) человеком тонкого ума, обширных знаний и острого психологического чутья, который к тому же надеется, что читатель способен оценить такие качества, иначе он не стал бы писать. В этом отношении театральная форма произведения отличается от беллетристической, ибо в пьесах писатель вынужден говорить исключительно устами своих персонажей, так что явленные ими добродетели обычно и приписываются им, а не автору[127]. Это верно (хотя, возможно, в меньшей степени) и для других писаний, не имеющих отношения к художественной прозе[128].
Однако вышеописанное ощущение автора как личности может быть всего лишь поверхностным, иллюзорным впечатлением читателя. Исходя из текста в качестве единственного источника для выводов, в лучшем случае можно получить какой-то частичный портрет, ибо очень многое о писателе никогда не попадает в печать. Но еще важнее факт, что все попадающее в печать не относится к проявлениям стихийного безыскусного самовыражения. В конце концов, писатель и его редакторы имеют достаточно времени, чтобы поработать над текстом. Промахи вкуса, памяти и интеллекта можно исправить. Орфографические и грамматические ошибки, повторения, неудачные каламбуры, слишком назойливое употребление некоторых излюбленных слов и другие компрометирующие особенности текста можно вовремя заметить и устранить. Отдельные фразы можно иначе повернуть, интонировать и смягчить. Если в одном варианте автор покажется гонящимся за эффектом, то в следующем он может постараться устранить такое впечатление. Фальшивые ноты надо уловить еще, так сказать, «на репетиции» и правильно сыграть все заново. Ведь очевидно, что если пренебречь такой обработкой текста, критики быстро заметят и не одобрят сей факт. Поэтому качества ума и душевной чуткости автора прозы, которые читатель выводит из его писаний, оказываются не менее трудоемким продуктом творчества, чем качества личности персонажа, которого рождают из небытия слова драматурга. И хотя мы как читатели достаточно подготовлены, чтобы понимать фиктивность представляемых автором персонажей вместе с их личными качествами, сама живая память о собственных качествах, видимо, заставляет нас допускать, будто личность писателя, какой мы ее ощущаем, читая произведение, реальна. Мы отзываемся на стихийность, непосредственность, спонтанность наших ощущений, и поэтому то, что мы ощущаем, кажется органически присущим писателю как личности. Все это означает, что работа писателя заканчивается, когда он добивается нужного впечатления, и что материал вымышленных сюжетов, интересных для общества тем и труда других писателей превращается им в прикрытие некоторой разновидности эксгибиционизма. Тому, кто подпишется под этим последним предложением, придется принять кое-какие редакторские предосторожности, чтобы в нем не отрицалось того, что утверждается[129].
После сказанного можно утверждать, что в беллетристике и даже в прозаических писаниях небеллетристического характера тип личности автора выявляется из его произведения, но этот тип есть искусственный продукт, артефакт процесса писания (определенно, хотя бы отчасти), а не результат некого органичного самовыражения индивидуальности в своих действиях. Достаточно очевидно также, что канал, через который осуществляется такая искусственная проекция, – это не основной канал, по которому движется нить повествования: фактически писатель больше полагается на вспомогательные каналы, а именно на те аспекты дискурса, которые не должны прямо привлекать внимание. Таким образом, на самом деле впечатления об авторе, которые передаются косвенным способом, непрямо (и, конечно, не являются тем, на что он мог бы непосредственно претендовать), – это в той же мере свойства канала коммуникации, в какой и свойства самого человека.
Теперь рассмотрим реальное взаимодействие лицом к лицу между индивидами. И в этом случае мы обнаруживаем, что необходимо различение между индивидом как самотождественной, длящейся во времени сущностью, и ролью, которую ему случается играть в определенный момент. Вдобавок, именно это различение, будучи замеченным другими, несет известную нагрузку по передаче информации о личности[130]. И такого рода информация о существовании «ролевой дистанции» большей частью тоже будет проходить по второстепенным каналам (tracks).
Но хотя подобный стилистический переход от личностной идентичности к текущей роли можно толковать как еще один смысловой аспект, согласно которому поведение индивида закреплено в чем-то внешнем, я не думаю, что именно в этом надо искать объяснение.
Возможно, мы отыщем путеводную нить, если снова присмотримся к писательской продукции. Последуем за аргументацией Гибсона:
Большинство преподавателей литературы согласны в том, что жизненные установки, выраженные «влюбленным» в любовном сонете, нельзя бездумно смешивать с какими бы то ни было установками самого сочинителя, явленными или не явленными в реальной жизни. Техника исторического анализа пригодна для жизнеописания этого автора, но в конечном счете учителя литературы должен интересовать лирический герой, тот голос или условная маска, через которую некто (кого мы вполне можем назвать «поэтом») сообщается с нами. Именно лирический герой «реален» в смысле, наиболее полезном для изучения литературы, ибо он «сделан» исключительно из материи языка, и его Я целиком представлено перед нами на раскрытых страницах[131].
Что верно для авторов сонетов, то верно и для писателей-прозаиков. Очевидно, что автора прозы нельзя отождествлять с каким-нибудь конкретным персонажем-характером его повествования, хотя бы потому, что он сумел создать много персонажей, каждый из которых предположительно сам претендует на частичное отражение личности автора. Так же, как мы создаем впечатление о каждом персонаже произведения, так мы создаем впечатление и о его авторе (это, скорее, впечатление, собранное из разрозненных мелочей). Подобно тому как при формировании впечатления о характере персонажа, мы опираемся на сказанное и сделанное им самим или в связи с ним, мы склонны полагаться на содержание беллетристического произведения, чтобы получить впечатление о его авторе. Разумеется, репутация писателя вполне может предварять нашу реакцию на данное произведение, но последствия этой предварительной подготовки не обязательно однозначны. Ибо заключение, к которому мы приходим, может быть получено и самостоятельно из того, что предлагает нам мир печатного слова. Мы узнаем о писателе из литературных сплетен, опубликованных и неопубликованных. Мы узнаем об авторе из его книг[132].