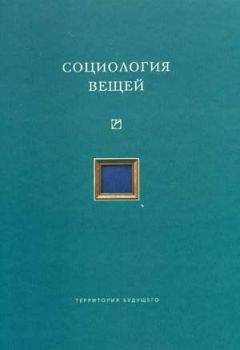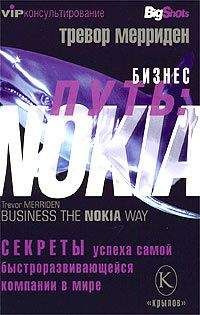Эта оппозиция гофмановского и гарфинкелевского рассуждения о материальном объекте иллюстрирует два альтернативных способа анализа вещи в микросоциологии – два способа ее исследования как оснащения. Гарфинкель отталкивается от хайдеггеровской идеи «оснастки» (Zeug). (Анализ такой трактовки вещи дан в опубликованной во второй части сборника статье К. Кнорр-Цетины «Социальность и объекты»). Вещь, понятая как оснастка, это вещь инструментальная или «инструментализируемая» практическим действием. Вы заводите свой автомобиль, ключ поворачивается в замке зажигания, мотор начинает работать ровно и без перебоев, вы производите ряд привычных манипуляций и машина как нечто проблематичное исчезает, она становится послушным инструментом ваших практических действий. Она была проблематичной в тот краткий момент, когда вы прислушивались к звуку мотора, но перестала быть таковой, как только вы убедились, что «все нормально». Лишь тогда, когда они выходят из строя и перестают быть инструментами, вещи вновь становятся «объектами» (Б. Латур справедливо указывает на коннотацию слова объект: «to object» – «возражать»). Например, когда в шариковой ручке заканчиваются чернила она из воплощенной функции письма становится проблематичной, непрозрачной материальной вещью. Мир практических нерефлексивных действий – это мир послушных (по Хайдеггеру, «свернутых», «прозрачных») вещей.
Определение «оснащения» („equipment“) у Гофмана противоположно определению «оснастки» („Zeug“). В теории фреймов вещь – это, скорее, реквизит, чем инструмент. То движение, которое совершает Гофман в направлении концептуализации материального объекта как оснащения-реквизита, возвращает вещам их объектность. Вещи более не «поглощаются» действиями людей, но скрепляют и направляют их: деловой костюм придает внятность взаимодействиям в «деловых» фреймах (отделяя деловые встречи от встреч «без галстуков»), спортивное снаряжение связывает взаимодействия в фреймах «активного отдыха» (см. в тексте Гофмана тезис о преемственности ресурсов взаимодействия). Таким образом, материальная атрибутика повседневной жизни придает социальным ситуациям связность и целостность.
Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что подобная концептуализация оставляет вещам ничуть не больше самостоятельности в качестве предметов исследования, чем их определение в категориях послушных и подручных объектов. Дело в том, что реквизит – это всегда знак, сообщение. А потому хоть флаг и не «поглощается» ритуалом парада так, как шариковая ручка «поглощается» практикой письма, но флагом его делает не материальность полотна и вещность древка, а все те же скрывающиеся за ним «символические отношения». Мы вновь вернулись к зиммелевской постановке вопроса о социальной логике вещей и предложенному им решению: социальное содержание самозаконно, материальная форма – нет. В терминах Гофмана: «…непрерывность характера обращения [с предметами] навязана нам не объективной непрерывностью существования материальных вещей, но нашими представлениями о непрерывности духовно-значимых предметов. Священные реликвии, сувениры, подарки и локоны волос на память поддерживают некую физическую непрерывность связи с тем, о чем напоминают. Но именно наши культурные верования и представления о преемственности ресурсов деятельности придают таким реликвиям известное эмоциональное значение, личностное звучание – так же, как эти верования „придают“ нам нашу личность»[16]. Социологизированная подобным образом вещь предстает в образе физического объекта, опутанного паутиной смыслов. В этом отношении к материальности социального мира еще раз проявляется сходство позиций И. Гофмана и Г. Зиммеля.
Импликация такого решения – требование охранять демаркационную линию между социальным и материальным. Фреймы, хотя и имеют материальные корреляты, нематериальны. Например, «игра в шахматы, – отмечает Гофман, – содержит два принципиально различающихся основания: одно полностью принадлежит физическому миру, где происходит пространственное перемещение материальных фигурок, другое относится непосредственно к социальному миру противоборствующих в игре сторон»[17]. Из чего следует, что противоборство сторон – социально, тогда как «простые» материальные фигурки требуют оживления, анимации, включения в игру, без которой они обречены оставаться «просто» кусочками материала разной формы. За этой демаркацией материального и социального угадывается неэксплицируемая исследовательская установка: материальное – «просто», социальное – «сложно». Материальные вещи суть «просто вещи» (mere things), они непроблематичны и требуют внимания лишь настолько, насколько являются ингредиентами сложной субстанции социального. Социальное самодостаточно (шахматный поединок может вестись вслепую, без досок и фигурок), материальному же требуется опора в мире социальных значений.
Этот заход на определенном этапе развития социальной мысли становится исключительно эффективным средством социологической экспансии. Достаточно указать на нити паутины смыслов, тянущиеся за «простым» материальным объектом, и социология получает право неограниченного доступа к самым разнообразным предметам (поскольку исследует не то, что они «есть», а то, что они «значат» для представителей конкретного сообщества). Следы данной перспективы анализа можно обнаружить и в социальной (культурной) антропологии.
Так, в статье «Культурная биография вещей: товаризация как процесс», вошедшей в первую часть настоящего сборника, антрополог Игорь Копытофф использует сходную логику при атаке на аксиомы экономического мышления: «Для экономиста товары просто „есть“… С точки зрения культуры, производство товаров является культурным и когнитивным процессом: товары следует не только произвести физически как вещи, но и маркировать в координатах культуры как вещи определенного рода. Из всего диапазона предметов, наличествующих в обществе, лишь некоторые получают право называться товарами. Более того, один и тот же предмет может считаться товаром в один период времени и не считаться им в другой. И, наконец, один и тот же предмет может одновременно являться в глазах одного человека товаром, а в глазах другого – нет. Подобные изменения и разногласия при оценке того, является ли вещь товаром, свидетельствуют о существовании моральной экономики, которая скрывается за объективной экономикой, выражающейся в зримых сделках купли-продажи»[18]. Товар здесь понимается как своего рода «маркер», которым помечается материальный предмет сообразно закрепленным в культуре системам различений. Копытофф проблематизирует фундаментальное различение западной культуры – различение «мира людей» и «вселенной объектов». Его анализ охватывает феномены рабства, коллекционирования, суррогатного материнства, моды на антиквариат, абортов – при этом, чего бы ни касалось его исследование, Копытофф последователен в своем стремлении раскрыть стоящую за «объективной» экономикой «моральную» экономику культурных значений. Собственно, культурные значения, по Копытоффу, и определяют модус бытования вещи в том или ином сообществе.
Идея сама по себе не новая. Заслуживающей внимания ее делает методологическая база исследования – применение биографического метода для изучения «жизненного пути» и «карьерной траектории» материальных объектов. Под биографией вещи здесь понимается ее перемещение в пространстве социальных значений. «Например, в заирском племени суку, где я работал, – пишет Копытофф, – продолжительность жизни хижины составляет около десяти лет. Типичная биография хижины начинается с того, что она служит домом для пары или, в случае полигамной семьи, для жены с детьми. Со временем хижина последовательно становится гостевым домом или жилищем для вдовы, местом встреч подростков, кухней и, наконец, курятником или хлевом для коз – пока не разваливается, подточенная термитами. Физическое состояние хижины на каждом этапе соответствует конкретному применению; хижина, используемая не так, как диктует ее состояние, вводит людей суку в смущение и говорит о многом. Так, если гостя селят в хижине, которой положено быть кухней, это кое-что говорит о статусе гостя, а если на участке нет хижины для гостей, это кое-что говорит о характере хозяина участка – он ленив, негостеприимен или беден»[19].
Насколько проблематично для Копытоффа упоминаемое здесь «физическое состояние» объекта? В гораздо меньшей степени, нежели динамика его «культурного статуса». Физическое старение хижины идет параллельно с ее культурным старением (как иначе назвать процесс приобретения социальной биографии, завершающийся физическим распадом?), а зачастую детерминирует его – термиты могут оборвать жизненный путь хижины и в бытность ее «домом для гостей». Но физическое старение описывается в данной схеме как однонаправленный, линейный, «простой» процесс в противоположность процессу культурного оформления биографий, допускающему возвратное движение в пространстве социальных значений («уникальный объект – товар – уникальный объект», «храм – бассейн – храм» и т. д.). Для того чтобы социальная и культурная мобильность вещи предстала как самостоятельный предмет анализа, требующий особой логики исследования, ее физическая биография должна быть описана максимально просто и непроблематично. В противном случае в объяснительную схему наряду с «когнитивным маркированием» и «культурно наполненными категориями» придется включить «термитов» и «качество строительного материала».