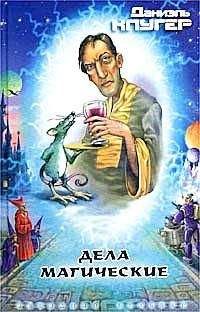Андрей БЕЛОЗЁРОВ
ЛЮДИ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ
Повесть
1. Чужой дом
Была ночь и очередной приступ судомрачия. Что такое судомрачие? Просто слово, появившееся само собой, и звучанием своим как нельзя лучше передающее мое нынешнее состояние. Мое чувство вины и неподдельного страха, словно ты изо всех сил жмешься к стене, а за ней заочный кто-то, кого ты не чувствуешь и не слышишь, а только знаешь о своей перед ним вине и боишься, боишься, что он уйдет и будет уже неизменно пусто, а ты и не поймешь, не услышишь, а только будешь все также жаться к стене.
Они, мои приступы, сродни белой горячке, и наваливаются на отравленный организм после изнуряющих запоев. Так было и в этот раз. Я пил неделю, но не слишком много, чтобы судомрачие заявилось ко мне. А потом из деревни с каникул вернулся Виталик, и мы отметили его приезд. В первый день мы испили прорву водки. Второй день мы до обеда стойко держались, и он веселил меня песнями, сочиненными по ходу, под монотонный гитарный мотивчик.
Я работаю на фабрике по производству использованных презервативов, о-о-го-го.
Да! Мы производим использованные презервативы-ы.
А еще съеденные булочки и рваные носки, у-у-угу.
А вчера нам выдали зарплату за полгода
Продукцией нашей фабрики, о-ы-ы-ххы!
Мы смеялись и смехом спасались от похмелья, однако после обеда решили, что нужно продолжать пить.
И был день третий, и Виталик сказал, что больше не может, что лекции у него и надобно отойти. Сказавши, засобирался в свою общагу. У меня же лекций не предполагалось, поэтому, проводив его до ближайшего перекрестка, я свернул в магазинчик с ничего хорошего не предвещающим названием «Аннушка», где и приобрел литровый тетрапак «Анапы» и 0,5 тридцать третьего.
Ночь была бесконечна. Голова хотела лопнуть, а сердце, напротив, сжало, что и не вдохнуть. Я лежал колодой, только моргал, наблюдая, как ухмыляющиеся свиные и говяжьи головы крутят вокруг меня хоровод. Вместо лампочки с потолка висла петля, а на тополе за окном белели гирлянды лошадиных черепов, помнится, они еще слегка бряцали.
Утром же, после череды болезненного бреда, после того, как судомрачие отступило, грань, на которой стоял, кажется нереальной, и рука моя левая снова движется; и тогда я смотрю на эти чужие стены в обоях с розовым узором, выцветшим местами до бледно-желтого, на вышарканные жирные овалы над кроватью, оставленные спинами и головами многих квартировавшихся до меня, на потолок с лампочкой на длинном шнуре и назойливым крюком для люстры, словно кто палец протянул через все потолки и подманивает, показывает верный путь; смотрю, и странно мне: отчего это такое хрупкое все - и не рухнет, ведь непонятно чем держится, отчего потолок на меня не падает, суставы мои не рассыпаются, отчего земле бы на солнце не упасть, отчего жизнь сидит внутри, как паразит, и длится, и теплится, и держит кладку, сочленения связывает.
И я, конечно же, встаю с кровати и не осыпаюсь, прохожу на кухню, где на столе, на изрезанной, с плавлеными кругами от горячих кастрюль клеенке обычно томятся накрытые железными кружками два-три таракана, сажусь за этот стол, стираю рукой жир и крошки на небольшом пятачке, чтоб не зажирнить тетрадь, и, конечно же, пишу.
Пишу в чужой тетрадке с Бритни Спирс на обложке - у Бритни плотоядно обведены губы и глаза, прежней, видимо, хозяйкой тетради. Рядом древний кассетник, я включаю его, он безобразно тянет - женский вокал превращается в мужской, мужской в дьявольский, но в чужом доме выбирать не приходится. И моя похмельная муза расправляет здесь крылья.
2. Счастливое место
Митек - производная от ее фамилии. Она приходила, когда кончались бабки, а желание выпить не кончалось. Это посредством Митька и портвейна попал я в замечательное место, похожее на рай...
Приняв портвейна, Митек плакалась на судьбу, на сволочей-любовников, которые кидали и обкрадывали ее, страдала по последнему - татуировщику, похожему на Горшка из «Короля и Шута».
Приняв еще, хвасталась хмельными подвигами, совершенными на сессии в Новосибе: тут и ночные лазанья по простыням с четвертого этажа общаги - в поисках спирта, тут и панки, которые заедают водку тараканом, и лесбийские танцы на пьяных столах баров.
Приняв по максимуму, она просто утыкалась в налитый портвейн и грузилась, или же иногда смачно сплюнув туда, в стакан, демонстративно выпивала.
Вот она, Митек, Митечек, с милой мордашкой сердечком и скромной, а на самом деле наглющей, улыбочкой. И улыбочки ее, думаю, ломом не перешибешь, она с этой улыбочкой, как у напаскудившего школьника, думаю, и через труп мой перешагнула б.
И вот пришла Митек, а у меня еще оставалось малость от получки, и мы двинули отовариваться. Пока я покупал «Анапу» для себя и Митькин традиционный «Кавказ», она стащила пару бананов с прилавка и затырила под полы своей в красную клетку рубахи. Потом мы еще искали плавленый сырок, потому что она канючила, что всегда закусывает «Кавказ» сырком, что в Новосибе единственно так она и делала, что это едва ль не священнодейство.
Потом было хорошо. В парке отдыха мы забрели на заброшенную дискотечную площадку, огороженную двухметровым забором из рабицы, отчего площадка больше походила на вольер для скота. Чудесно запущенная, поросшая бурьяном и тополями, которые взломали асфальт. Одно кривейшее дерево стволом вросло в рабицу - будучи молодым побегом, оно сунуло верхушку в ячейку сетки и росло так, и утолщалось, и врастало плотью в железную проволоку. Красота запустения ублажала мой глаз.
Мы ели бананы, ломали сырок «Орбита», по очереди грызли неподатливый уголок тетрапака, пока таки не отгрызли, закатывали друг другу репейник в волосы. И солнышко в тот день вовсе не надоедало, не тыкало в меня лучами, наоборот - грело по-доброму. Разомлевшая Митек стала напевать подражательным образом: «Мы все уйдем из зоопарка». Это забавляло меня, вдвойне забавляло, потому что наша танцплощадка напоминала вольер.
Я быстро пьянел, сердце, неумолимый насос, перерабатывало портвейн в блаженство, в возвышенность чувств - я любил Митька, репейник, птичку. Сырок наполнялся особым вкусом, его суховатые, кислые крошки молодили мне душу - ведь он был родом из моего детства.
«Мы все уйдем из зоопарка-а...» И я даже верил - уйдем.
- Самое время покурить, - сказал я, жмурясь на солнышко.
И полез в карман. Ветерок хоть и легкий, но задул три спички в моих руках, как я от него не уворачивался. Тогда Митек научила меня прикуривать «по-морскому» - раскрыла коробок до половины, быстро подожгла спичку и сунула в образовавшуюся в коробке нишу - а там огоньку никакой ветер не страшен.
Сделав пару жадных затяжек, я сказал:
- Слушай, Митек, выходи за меня замуж, что ли...
И тут же:
- Стой, не отвечай прямо сейчас. Вот приедешь с сессии... Тогда... Но не забудь. Приедешь и сразу дашь ответ. Идет?
Она пожала плечами и сказала: «Ладно». И, естественно, с неперешибаемой улыбкой.
Мой чудный сырок с округлыми углами, каемочкой, с клочком серебристой фольги прилипшей... Я отламываю белый мягкий уголок, и пока я это делаю - я живу. Сейчас бы я сказал, что никогда не связался бы брачными узами с бесхозяйственной пьяницей Митьком, совсем не похожей на мой мещанский идеал, что я сделал это предложение, потому что никто этого не делал до меня, и таким образом хотел расположить ее к себе, и если бы я не был уверен, что впоследствии она скажет «нет», я бы не бросал слов на этот задувший три спички ветер. Но там, на танцплощадке, я хоть чуточку, но жил, а это редкость ведь, и отдавался игре в любовь, и искренне верил в сказанное.
Вечерело. В том же магазине мы взяли еще «Кавказа», и пока я неумело строил продавщице свои пьяные глазки, Митек стырила очередную пару бананов.
А по выходу случилось преображение. Сказка опустилась на город. Мы шли по улицам, и нигде не было видно людей. Мы гуляли, утопали в молчании на закрытом еще в 70-х городском кладбище, любуясь на светлые, черно-белые лики в овальных рамках. Мы взгромоздились по лесам на колокольню строящейся церкви. Сидели на залитой теплым мягким гудроном крыше школы. И пили, пили. А людей все не было. За ними исчезло солнце, и в темноте мягко остановилось время.
И мы шли в темноте, холодало, и мы открыли первую дверь на пути. Это была то ли контора, то ли общежитие, за стойкой стоял стол вахтера. Мы сидели в его кресле, Митек звонила по черному дисковому телефону с отколотым углом внизу, звонила наугад - и везде только длинные гудки. Мы достали «журнал приема-сдачи дежурства», расписались в нем. Митькины глаза радостно светились, мои, наверное, тоже - ведь я дышал, так свободно дышал.
Потом - лицом к лицу.
- Ах, Борисыч, - с улыбкой вздохнула Митек - даже улыбка выглядела иначе.
И, конечно же, поцелуй.
И я осознал вдруг, каково оно, счастливое место. Моя утопия. Ведь все зло мира от излишка людей. Чтобы этот рай появился, нужно просто одномоментно убрать отсюда всех людей и оставить только меня с Митьком.