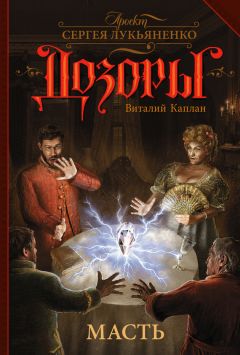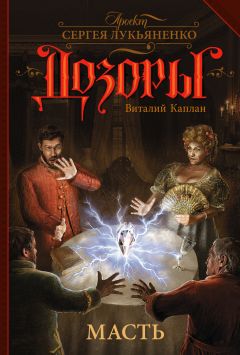Виталий Каплан
Масть
© С. Лукьяненко, 2013
© В. Каплан, 2016
© ООО «Издательство АСТ», 2016 История 1
Чёрный слон Пролог
Всего лишь ночная комната.
Снизу – пуховая перина, сверху давит одеяло – кусачее, из верблюжьей шерсти, неотменимое, как правила арифметики. Душно – это всегда, а запахи – раз на раз не приходится: дёготь, коим смазаны сапоги, ржавое железо, конский пот, подгорелая пшённая каша, розы, мокрое дерево, речная тина. Звуки вблизи одни и те же – легонько трещат половицы, шебуршит под кроватью мышь, едва слышно спускается по стене таракан. А дальние звуки бывают всякими. Иногда ссорятся за окном вороны, иногда воют волки, а то и соловей выводит свои рулады… или уныло стрекочут кузнечики… Но может и буря колотиться в закрытые ставни, и ливень хлестать по крыше, и двуручная пила визжать… и кому только приспичило пилить дрова за полночь?
Но звуки – ещё ладно, гораздо хуже – свеча. Та всегда одинакова: оплывший огарок на закапанном воском подсвечнике, и горит огонёк. Не дрожит, не шевелится – а застыл, будто изображён на полотне живописца. Живописец наверняка безумен – кто ж ещё напишет свечу, которая нисколько не прогоняет тьму? Ничего она не освещает, кроме разве что подсвечника. Пламя – высокое, белое, но яркости в нём никакой. И ещё что-то меняется в этом пламени – кажется, медленно-медленно оно гаснет, но никогда ещё не угасало до конца.
Кто зажёг эту свечу? Почему я не в силах отвести от неё взор – и столь же не в силах подняться, задуть её? Почему веет от белого огонька не жутью даже, а скукой, точно от мелкого, упорного дождика? Такие бывают в марте, когда небо неделями кутается в одеяло туч. Почему я знаю, что свеча эта – знак для меня, но не знаю, кем и зачем оставлен. А главное – в чём смысл его?
Вопросы, вопросы… толкутся в мозгу, точно головастики в луже, столь же бессмысленные. Всегда одни и те же вопросы, и всегда нет на них ответов. Что же есть? Залитая тьмою комната, верблюжье одеяло и свеча, не дающая света.
А потом просыпаешься, крутишь головой, хлопаешь глазами… нет никакой такой свечи, и быть её не может, потому что сон. И уж точно не к добру.
Впрочем, и не к худу.Глава 1
Сверху сыпало – ранний ли то был дождь, поздний ли снег… в любом случае март заканчивался мрачно. Да и вообще картина, если глянуть по-людски, выходила в нужной степени печальной. В трёх шагах от разрытой могилы толпится публика, на лафете водружён гроб – морёный дуб, позолоченные кисти, изысканная резьба. Жалко. Такую красоту – и кому? Земляным червям! И ста лет не пройдёт, как сырость одержит верх над крепостью древесины.
Толпа, разумеется, скорбела, некоторые, судя по цвету, вполне искренне. Особенно убивалась дядюшкина экономка Степанида. Прямо изжелтелась вся. Дай ей волю, начала бы выть и рыдать, как принято это в деревнях. Но волю ей, конечно, не дали: нашлись разумные люди, шепнули: похороны действительного статского советника – это дело серьёзное, не терпящее бабьих воплей. Не сапожника погребаем, не приказчика из скобяной лавки и даже не купца второй гильдии. Тут покойник, можно сказать, государственный, всё должно пройти чинно и благородно.
Благородной публики хватало с избытком. Губернатор Николай Петрович, правда, не соизволил почтить, прислал вместо себя огромный венок, обвитый траурной лентой с надписью «Верному слуге государеву». Зато и городской голова Пуговкин тут был, и предводитель дворянства Коняев, и директор четырехклассного училища Полуэктов… не говоря уже о рыбёшках помельче. Ну и дамы, само собой. Разве могут порядочные дамы пропустить такое событие? Месяц ведь потом в гостиных обсуждать станут, кто во что был одет, да кто как на кого посмотрел, да как соборный протоиерей отец Георгий отпевал покойного… Понятное дело, скучна жизнь в городе Твери. Тверь, она, согласно пословице, в Москву дверь (а уж тем более в Петербург), да только в дверях надолго не задерживаются, шмыгают кто туда, а кто оттуда.
Отец Георгий расстарался. Самые большие свечи, самые голосистые диаконы… и обряд провёл неопустительно. После же отпевания обратился со словом к народу, отметил высокие добродетели покойного, выразил упование, что уготованы тому приличествующие его рангу райские обители…
Ну, ещё бы отцу Георгию не стараться! Сколько пожертвований на храм было от Януария Аполлоновича! И мало того – примерный прихожанин, исправно говел, службу церковную знал точно таблицу умножения. Когда возносил своё скорбное слово отец Георгий, многие – преимущественно дамы – даже и прослезились.
А мне стоило некоторого труда сдержать улыбку.
Зато дядя Яник не сдерживался. Не хохотал в голос – такого вообще за ним не водилось, но язвительно хихикал, и щёки его при этом мелко тряслись. А чего ему стесняться – всё равно же никто, кому не надо, не увидит.
…Капля, холодная и мерзкая, тюкнула меня прямо по носу. До чего же надоела мне эта мартовская хмарь, эти обложившие небо тучи, эта вечная грязь на сапогах. Тимошка вычистит, конечно, но не в том же дело! Настоящей весны хочется! С травами! С одуванчиками! Да, я из тех, кто желает странного. Узнали бы наши, столичные, – уж точно поиздевались бы.
Меж тем церемония шла полным ходом. Распорядитель похорон, похожий на бледную поганку Иван Савельич, давал слово желающим высказаться – в очерёдности согласно чину. Желающие имелись. Причём некоторые – и впрямь от чистоты сердца. Вот казалось бы, должность у дядюшки такова, что иной сочтёт за благо держаться от него подальше… а вот поди ж ты, уважают и скорбят. Ну и разумеется, размышляют, кого из Петербурга пришлют на место почившего статского советника Стрыкина. Их можно понять – не всё ведь равно, кто вскоре возглавит здешнюю контору Тайной экспедиции. Уж такая у нас Контора, от которой благородное общество желает на пушечный выстрел быть… а меж тем Контора к ним куда ближе, ибо в мозгах у каждого сидит… оттого и языки те, кто поумнее, придерживает.
Я с тоской взглянул на гроб. Там, под лакированной крышкой, на тёмно-синем бархате разместился высокий сухой старик. Насмешливые серые глаза закрыты, руки сложены крестообразно на груди. Честных правил покойник.
Ну что, племянничек, утомился? – шепнул мне в левое ухо дядя Яник. Оборачиваться я не стал, в Сумраке всё и так видно. Там же не глазами смотришь… вернее, не телесными глазами. Кстати, далеко не сразу научился я глядеть в Сумрак, не ныряя туда. Первый мой наставник, Александр Кузьмич, измучился со мной, непонятливым.
А что делать, дядюшка, что делать? Не нарушать же приличия? – отозвался я, не разжимая губ. Мои несказанные слова и без того влились в его уши. Заклятье «Тихой Связи» – одно из простейших, но и вместе с тем наиважнейших.
Ни в коем случае не нарушать! – кивнул дядя Яник. Тут, на первом слое Сумрака, он почти не изменился по сравнению с собою настоящим. Не тем тощим высохшим старцем, которого видели люди… и уж подавно не тем кадавром, что сейчас замещал его в гробу. Крепкий поджарый мужчина чуть старше сорока, в тёмных волосах местами проглядывает седина, тонкие губы кривятся в привычной усмешке, на левой щеке белый зигзаг шрама – зацепило саблей давным-давно, в елизаветинские ещё времена. Вывести – минутное дело, магии на грош, но дядюшка, видимо, полагает, будто шрам ему к лицу.
Таким дядю Яника видим только мы, Иные. Для людей приходится накладывать личину, которую ещё время от времени и подновлять надо. В самом деле, нельзя же в восемьдесят восемь лет выглядеть на сорок? Пойдут совсем ненужные разговоры.
Ни в коем случае не нарушать! – повторил дядя Яник, сидя в любимом своём кресле, обитом чёрным бархатом. Ведь протащил же как-то в Сумрак… или сотворил тут подобие. – Помни, сотни глаз на тебя смотрят. Большей частью с завистью. Ещё бы, единственный наследничек. Небось подсчитывают, сколько ты по завещанию получишь и как таким безумным капиталом распорядишься. Ну, тут мы им дадим возможность всласть почесать языки. Не забыл, надеюсь, как в руках карты держать?
Ещё бы мне такое забыть! Уже более полутора лет видеть их не могу. То есть наяву стараюсь не видеть, а вот над снами своими, как выяснилось, я не властен. Это ж мне только в первые дни после посвящения думалось, что маги могут всё. «С людьми – да, почти всё, – разрушил мои тогдашние мечты Александр Кузьмич, – а вот над собою… раны, скажем, залечить пара пустяков, но снами своими распоряжаться мы не можем».
Когда, дядюшка, собираешься явить себя людскому обществу? – поинтересовался я, хотя и без того знал – через неделю приедет в Тверь новый начальник конторы, назначенный сюда из Петербурга самим Степаном Ивановичем Шешковским, коего вся Россия трепещет.
Граф Сухоруков Иван Саввич, как это тебе великолепно известно, пожалует в Тверь к празднику Благовещения, – скривил тонкие губы дядя. – Та к что неделя у тебя есть, гуляй… в пределах разумного. Всё ж таки траур, кутить по-настоящему не след.