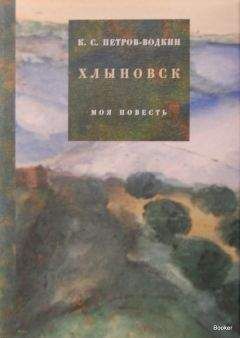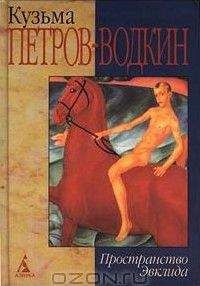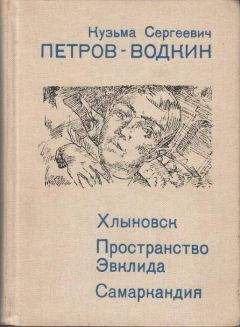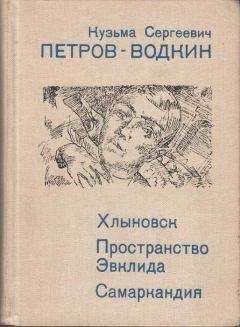Table of Contents
Содержание
Кузьма Сергеевич Петров-Водкин
Хлыновск
Содержание
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая
Глава двенадцатая
Глава тринадцатая
Глава четырнадцатая
Глава пятнадцатая
Глава шестнадцатая
Глава семнадцатая
Глава восемнадцатая
Глава девятнадцатая
Глава двадцатая
"Хлыновск" (1930) - первая часть автобиографической дилогии "Моя повесть" (вторая часть - "Пространство Эвклида", 1932), написанной Кузьмой Сергеевичем Петровым-Водкиным (1878-1939), прославленным российским живописцем, графиком, теоретиком искусства, педагогом и литератором, заслуженным деятелем искусств РСФСР, автором знаменитых картин "Купание красного коня" и "Смерть комиссара". Литературное наследие Петрова-Водкина удивительно интересно и разнообразно. В него входят рассказы, повести, пьесы, очерки, теоретические статьи. Но мемуарно-художественная "Моя повесть" занимает особое место. Наряду с другими его автобиографическими произведениями "Хлыновск" отличает свободная манера изложения, обилие остро подмеченных взглядом художника деталей и подробностей, придающие особую прелесть этой пленительной и вовлекающей в поток событий живой и жизненной прозе.
Книгу эту посвящаю дочери моей Лёнушке
Глава первая
ПО ЛИНИИ МАТЕРИ
Мои родные по линии матери были крепостные Тульской губернии. Дядья моей бабушки Федосьи Антоньевны работали в оброк на ткацкой фабрике в Москве.
Бабушка рассказывала мне из своей детской жизни: о нашествии французов, о Москве, где она побывала и сохранила образ Белокаменной до конца своих дней.
В Москву она ходила с матерью и теткой на повиданье с родными.
- Целый день, - говорила бабушка, - шли мы через Москву… Что тебе и пожара великого не было… Церквей, домов - глазом не обнять… А Иван Великий, батюшка, надо всей Белокаменной поднялся. Народу по всем переулкам тьма-тьмущая…
Тетенька Василиса смелая, бойкая была, к народу обращается, чтоб указанье нам сделали. Которые из народа на смех нас, деревенщину, подымают, а один степенный человек толком разъяснил дорогу нашу: вы-де, говорит, бабыньки, по кружной линии по Москве ходили, а вам сквозь нее надо дорогу взять, иначе-де и в неделю до места вашего не доберетесь… И смех и грех.
Пришли-таки к тетке Степаниде, а она уже не знает, чем и принять нас. Лапотишки мы у входа сняли, чтоб половиков не содомить… Посадила она нас за стол, а на столе чего только нет, а кушанья все незнакомые, непривычные: возьмешь в рот, а от их вкуса страх берет, язык жевать не поворачивается… А не есть - стыдно.
Смотрю украдкой я, а тетенька Василиса с большим остережением куски за сарафан сует: отвернется хозяйка, а она - шмыг за пазуху - и нет куска…
Батюшки-светы - смотрю, и мамынька за ней ухитряется… Стыд головыньке. Прямо не знаю, как и ужинать кончили…
Да. Хорошо они тогда по оброку ходили, - заканчивала бабушка, и мелкие морщины ее лица веселились от воспоминания.
В длинные осенние вечера, крутя веретено, задремывая с минуты на минуту, бабушка передавала мне историю ее дней и события, уже ставшие эпосом:
- И вот повалил Бонапарт на Москву - и конца-краю ему нет. Скрып от войска идет… Мы всей деревней в лесах укрывались. Ни тебе огня развести, ни голосом покричать. Натерпелись горя-горемычного.
Ведь, он, нехристь, с иноплеменниками своими царя Александру в полон звал. В святом Кремле нечисть завел. Нутро, можно сказать, русское опоганил… Хвастался - всю-де страну покорю, вере басурманской предам всех… А Бог и не потерпел удали его, да и послал на него Кутузова-батюшку с ополчениями бессметными…
Ну, а когда отступление его было - еще не слаще сделалось. Мужики воюют, а нас при старухах жалость берет. Морозы в теи годы лютые были. Забежит такой нехристь, а на нем рогожа поверх одеяния. Зубами хрущит, есть просит… То по голове младенца начнет гладить, хорошо, говорит, дома, - это, значит, он дите свое вспоминает.
Дадут старухи ломоть хлеба ему: уходи, мол, не ровен час мужики застанут.
Бирюков тогда рыскало видимо-невидимо, - так рядом с войском и бежали, живых людей ели. По деревне, бывало, как огни зажгутся - глазищи бирючьи светятся.
Озверели в ту пору мужики наши в погоне за неприятелем - за все выместить хотелось, ну да, конечно, и от баловства разгасились на жизнь человеческую, а главное, добро свое, награбленное Бонапартом, не упустить бы. Дядя Митрий, царство небесное, чуть голову не сложил ради баловства этого.
Поехали они на загонки и набросились на врагов, а те, видать, не сробели - оборону устроили. Один из них хватил дядю Митрия вдоль головушки - тот и свалился наземь, как сноп… Покуда что, вернулись сватья к Митрию, глядят, а голова пополам разрублена… Ну, тут ему лошадиным пометом голову умазали, да кушаком натуго перевязали… Так дяденька Митрий неделю в себя не приходил, а потом справился - отоспался, значит.
Даром это не прошло; прежнего мозга не стало - запамятывать стал. А коли ненастью быть - и заноет, заноет головушка по срощенному месту…
Веретено мягко скоблит деревянную чашку. Снаружи, из-под обрыва доносятся удары о плетень волжской волны. Старуха зевает мягким, беззубым ртом:
- Большая ноне прибыль… Вал-от как бьет… Баню не снес бы… - Еще зевает. Вдруг спохватывается: - Спать ложись, постреленок, - опять училищу проспишь. И огонь тухнет, - выгорел весь…
Я укутываюсь в шубенку бабушки на полатях, улыбаюсь от моего внутреннего геройства, идущего сна и от бабушкиного уюта… Огонь погас. Ко мне, засыпающему, доносится с пола прерывистый шепот:
- Всепетая… Мати… Родшая - и мягкие удары поклонов…
Это меня убаюкивает.
В поместье Тульской губернии человек, владевший моими предками, вероятно, не предполагал, садясь за карточный стол, что его игра отразится на моей судьбе, - сыграл неудачно. В результате проигрыша полдеревни мужиков и баб с детьми оказались перешедшими во владение счастливого партнера по картам, поместье которого было на Волге.
Бабушка, ее родичи и однодеревенцы запрягли сивок-бурок, уложили на возы скарб и детей и тронулись в переселение.
Красоты волжских берегов, конечно, не могли особенно утешить крестьян в расставании с насиженными испокон века местами, да и слышали ли об этих красотах выехавшие в пересел? Но слух, что "земля черная на Волге, что в нее ни брось - всходит", этот слух с первых же этапов пути стал доноситься до едущих.
Мужики, как всегда в несчастье, утешались будущим, предвкушая жирную землю саратовскую.
Кроме вышесказанного, бабушка мало и кратко говорила об этом переезде. Помню только:
- Всего натерпелись - и по миру ходили… Ребятишек перемерло - страсть. Всю дороженьку крестами уметили… Двенадцать недель путь делали. На самое Успенье Волгу увидели…
Как пчелы, пересаженные в новый улей, заработали на новых местах мои родичи, оплодотворяя землю и принимая в себя ее соки.
Когда вышла воля и крестьяне завозились, - дед мой Пантелей Трофимыч, занимавшийся еще с мальчишества по плотничьему делу, перебрался с бабушкой в городок. Сколотил он своими руками домишко над берегом Волги, к нему пристроил келейку, соединявшуюся крышей с передней избой.
В этой келейке и рожусь я в свое время. Келейка, собственно говоря, предназначалась для Февронии Трофимовны, сестры деда, овдовевшей в это время, но после смерти Пантелея Трофимыча бабушка Феврония перешла жить к золовке в переднюю избу.
Дед мой умер, когда матери было семь лет. Она о нем запомнила только по гостинцам и ласкам. Другие сообщали мне о деде, что тот был маленького роста, лысоватый, молчаливый, застенчивый, но очень спорый на работу мужик, добрый и всем доверявший. Весенней порой, когда свертывает и перекашивает на Волге наезженные дороги, от берегов и посредине чернеют промоины-полыньи, возвращался дед из заволжских деревень с ободьями колес, втулками и мелким щепьем. Один наедине, попутчиков для переправы в такое время не много найдется. Дома семья, может, нехватка в чем, на дворе светлый праздник; ехать надо было. Спасая лошадь, намерз и вымок дедушка, но все равно домой пришел ночью, трясясь от озноба, - без воза и лошади: воз легкостью товара спас хозяина, но потопил лошадь, скрывшуюся с головой в промоине. Дед бросился спасать за дугу коня и провалился сам. Лед на Волге трещал, ухал; надо было бросить все.
Когда Пантелей Трофимыч добрался, через льдину на льдину, до берега и оглянулся назад, - воз уже крутило и уносило движением тронувшегося льда. В эту ночь Волга пошла, и в эту же ночь слег дедушка и больше не встал. В воскресенье на Фоминой он умер.