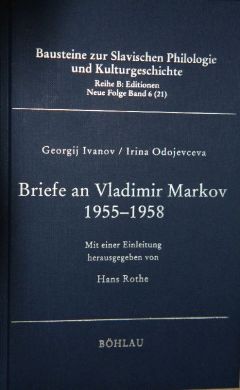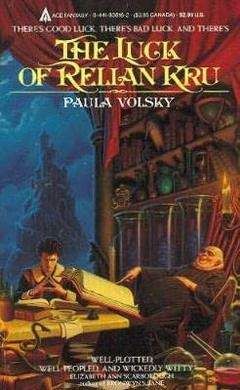Beau-Sejour Hyeres 21 апреля <1958 г.>
Дорогой Владимир Федрович,
Как видите, отвечаю Вам без промедления, в тот же час — за Г<еоргия> Владимировичах Сам он так слаб, что писать не может. Спасибо Вам большое. Ваша мысль нам обоим кажется превосходной. Конечно, Вы как никто сумеете кликнуть клич — в этом мы убеждены.
Кстати, Е.П. Грот уже — от доброй души — узнав о горестном положении Г<еоргия> В<ладимировича> — обратилась к Струве (?) с просьбой устроить сбор, он, конечно, отказался[173]. Но она так же необдуманно обратилась и к Вейнбауму и Лит<ературному> фонду[174]. Я, поблагодарив ее, попросила вежливо «воздержаться», т. к. такие ее выступления могут только повредить. Жаль, если она обидится, но ведь нельзя в таком деле глупить.
Вас Г<еоргий> В<ладимирович> с удовольствием и благодарностью уполномачивает заняться организацией помощи ему — и разрешает!
Конечно, надо это сделать как можно эффектнее и громогласнее, чтобы прошибить сердца и кошельки читателей. Если просто сообщить, что поэт Георгий Иванов болен и нуждается, — ничего не выйдет. Надо обратиться «к совести эмиграции» — как-никак Георгий Иванов последний из русских дореволюционных поэтов, и грех дать ему так бесславно — и преждевременно, ведь ему только 63 года — умереть.
А эмиграция уже имеет на своей душе грех гибели Марины Цветаевой, да и Ходасевича тоже никто, когда еще можно было, не поддержал.
Теперь, после смерти Ремизова, не осталось никого из «прежних» — не считать же Зайцева за «настоящего».
Конечно, Вы правы и в том, что помощь должна быть регулярная. Самое лучшее, чтобы деньги поступали к Вам. Думаю, что лучше всего покупать у Вас франки на доллары, т. к. у Вас курс выше, или просто посылать нам чек американский, такой, как у Вас, на любой американский банк. Здесь такие чеки легко и выгоднее меняют. Но все это подробности и мелочи. Главное — кликнуть клич.
Может быть — на Ваше усмотрение — дать подписать клич некоторым китам, вроде Карповича, Гуля и тому подобным, кто захотят? Решайте сами — мы вполне полагаемся на Вас.
Г<еоргию> В<ладимировичу> действительно очень, очень плохо — и до сегодняшнего дня — ему с каждым днем становится хуже. Он почти все время в безучастном состоянии, в полусне. Вчера, когда меня не было дома, он соскользнул с дивана и в продолжение двадцати минут не мог встать, так я его и застала на полу.
Самое скверное, что здешние доктора не умеют определить, чем он болен. Одним давлением крови его состояния объяснить нельзя. Доктор мне недавно сказал: как? Вы все еще не отвезли вашего мужа в Париж? Там, может быть, разберут, что с ним, если Вы обратитесь к специалистам.
Но, спрашивается, как и на какие деньги я могу предпринять такое путешествие? Я просто теряю голову от отчаяния и бессилия. Я так боюсь, что не могу спать ночью, все прислушиваюсь к его дыханию.
Простите, что пишу Вам все это — но Вы один из настоящих друзей Г<еоргия> В<ладимировича> — их, к сожалению, немного.
Но довольно. Напишу и о себе, т. е.: о моих — Ваших стихах — о Хлебникове.
Спасибо за поправку — непонятная рассеянность с моей стороны. Конечно, «дева ветреной воды»[175]. Я поправила. И вот как получилось:
Как дева ветреной воды,
Забыв озера и сады,
Дыхание в себя забрав
(и т. д.).
Гуль уже ответил, что пойдет в следующем номере «Нов<ого> журн<ала>» еще с одним моим. Я рада, что могу посвятить Вам, т. е. что Вы разрешаете.
Пишите, пожалуйста, даже если только несколько слов — по делу — и несколько — без дела — о себе. Сердечный привет всему собачьему семейству и поклон Вашей жене и Вам.
Пусть Вам на новом месте будет лучше, чем на прежнем.
Ваша Ирина Одоевцева
<На полях:> Жорж целует Вас. Пять долларов дошли — спасибо и еще раз спасибо.
Скоро в издании «Нов<ого> журнала» выйдет книга стихов Жоржа[176]. В следующий раз пошлю Вам его новую фотографию. Его снимали на дому.
<май 1958 г.>[177]
Дорогой Владимир Федрович,
Письмо с 5-долларовым вложением дошло благополучно. Большое спасибо.
Пришло оно сегодня, когда Г<еоргию> В<ладимировичу> впервые за неделю стало настолько лучше, что он смог сам его прочесть. А шесть дней тому назад я думала, что это уже конец. У него был временный паралич, и он двое суток пролежал, не в состоянии двигать ни рукой, ни ногой, и только стонал и задыхался.
Случилось это с ним вследствие пребывания в госпитале, где его подвергли всяческим мучительным и напрасным исследованиям, думая, что его надо оперировать. Все это оказалось докторской ошибкой, но Г<еоргий> В<ладимирович> так извелся в госпитале, что, вернувшись домой, чуть не умер.
Самое ужасное то, что позвать в дом доктора со стороны нельзя, а домашний не обращает внимания на больных, не желающихлечиться в госпитале. Мне пришлось одной ухаживать за Г<еоргием> В<ладимировичем> и днем и ночью. И это не только утомительно, но и очень страшно. Мне все казалось, что он умирает. Особенно страшно ночью!
Спасибо большое за все, что Вы делаете для Г<еоргия> Владимировичах Помощь ему действительно необходима — немедленная помощь.
Ваша формула — «Если не понимаете, то вы ослы»… исчерпывающе точна, но лучше не дразнить подлецов, конечно. И немного сахару необходимо, чтобы они чувствовали себя героями за свою подачку. Литфонд меня поразил, прислав… 30 долларов. Для чего, спрашивается, стригут они баранов-читателей, если для Георгия Иванова, для его спасения не находится больше, чем эти гроши? У нас на 30 долларов даже нельзя сходить на осмотр к хорошему профессору. А Жоржу необходимо съездить хоть на месяц в санаторию. Он совершенно надорван, и доктор не скрывает, что его положение опасно — и с каждым днем ухудшается.
Неужели же ему действительно дадут погибнуть? Ведь его еще можно спасти. Но скоро будет поздно. И тогда никакие санатории не помогут. Но довольно об этом.
Вы правы, статья Адамовича[178] не так уже хороша и не без старомодности. Но все же не без лестности. И даже Вам комплимент отпущен,
чем он меня известил заранее. «Хоть на один раз согласился с Марковым, которого Вы так любите»[179]. Но, конечно, ему новые стихи Г<еоргия> В<ладимировича> не очень-то нравятся. Он весь в прошлом, и прошлое ему всегда милее настоящего.
В моем Хлебникове, моем-Вашем, изменение — добавка:
Как дева ветреной воды,
Забыв озера и пруды…
и так далее.
А то получался вздор. Я просто забыла, что не забав, а воды. Но из-за этого получилось «богаче», забористее.
Видите, я даже о стихах рассуждаю, хотя мне сейчас ни до чего, кроме Жоржа, дела нет.
Желаю Вам и Вашей жене здоровья и всяческих удовольствий и успехов. Как мало мы все ценим будничное благополучие и как часто зря огорчаемся. Я это поняла только теперь.
С сердечным приветом
Ваша И. Одоевцева
<На полях:> Поблагодарите всех участников помощи и себя в первую очередь от нас обоих.
А моей «Ночи в вагоне»[180] Вы не заметили? Или не нравится?
Beau-Sejour 9 июня <1958 г.>
Дорогой Владимир Федрович,
Спасибо и еще спасибо. И Вам, и Струве[181]. Ему я на днях напишу. Сейчас я в таком состоянии, что почти не могу связать двух слов.
Чек страшно помог. С Жоржем были всякие ужасы, даже писать о них тяжело.
Мне было очень грустно, что и Вам плохо и что Ваша жена должна поселиться в санатории. Что с ней?
Желаю Вам всего наилучшего — всем Вам, включая и оперированного песика.
С самым сердечным приветом и такой же благодарностью.
Ваша Ирина Одоевцева
<На полях:> Пожалуйста, напишите Жоржу письмо. Это его развлечет. Он ведь Вас очень и очень любит.
20 июня <1958 г.>
Дорогой Владимир Федрович,
Жорж очень хотел Вам ответить, настолько, что он сегодня утром сказал мне: «Я всю ночь писал Маркову письмо во сне и никак не мог справиться с F и написать Бедрович, а это было необходимо». Вот видите, как он о Вас думает. Но письма от него Вы сегодня еще не получите, он так слаб, что даже газет не читает, несмотря на события[182].
Пожалуйста, пишите ему, для него это одна из редких радостей.
Теперь — о Вашем желании помочь ему. Нет, я совсем не согласна с Карповичем. Конечно, единовременная сумма — хотя бы только 200 долларов — очень нам полезна, и хорошо, что он хочет ее выхлопотать — но ежемесячная пенсия, помогающая иметь твердый бюджет, еще полезнее. Что до того, что рука дающего сможет оскудеть, то на этот риск надо идти. Да он и не так велик, обыкновенно люди держат свои обещания и не берут своего слова назад. Многие из «старших» писателей получали пенсии в продолжение десятка лет.