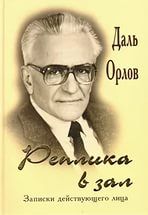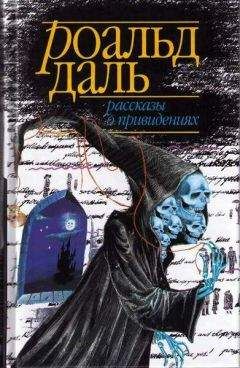...Поэты ходят пятками по лезвию ножа
И режут в кровь свои босые души...
С таким финалом и было опубликовано.
Говорят, этот номер "Советского экрана", имевший официальную цену 45 копеек, расходился с рук за 15 рублей.
Скрипка Окуджавы
Однажды в редакции от кого-то услышал: "Исааку Шварцу уже за шестьдесят, а он никакого звания не имеет..."
В те времена получить звание - не то, что сегодня: дело обставлялось со всей серьезностью, каждая кандидатура где-то наверху тщательно изучалась, собирались разные документы, весь процесс мог затянуться на год, на два, а то и дольше.
Шварца я никогда в глаза не видел, но всегда им восхищался. Когда Сергей Соловьев сдавал в Госкино картину "Мелодии белой ночи", впечатленный концертом для фортепиано с оркестром, который в фильме исполняет герой Юрия Соломина, спросил режиссера: "А чья музыка?" "Шварца!" - сказал он так, как если бы назвал Чайковского. И это была справедливая интонация, класс прозвучавшего примерно так и воспринимался.
О том, что к тому времени уже было шварцевское участие в "Белом солнце пустыни", в "Звезде пленительного счастья", в "Дерсу Узала", в десятках других фильмов - говорить не приходится, все было на слуху, и было - наслаждением.
Но, видимо, там, в сумрачной северной столице кому-то из властей предержащих был не симпатичен или даже не угоден этот солнечный музыкант, коли упрямо обносили его давно заслуженной почестью! Шутка ли - за шестьдесят! Этот возраст мне в те годы казался солидным. Не справедливо, думалось, надо человека поддержать. Чем черт не шутит: может, публикация в массовом журнале станет последней каплей для решения "дать" звание или "не дать"...
И тут в свой рассказ я должен ввести новый персонаж - находившегося в расцвете славы Булата Окуджаву. Я ему позвонил и попросил написать об Исааке Шварце - все что угодно, все, что захочет, и так, как захочет, напечатаем, не изменив ни запятой. Булат охотно согласился.
Может быть, кто помнит, был такой фильм - "Мы с вами где-то встречались". Вот и мы с Булатом "где-то встречались". Я еще застал время, когда о Булате Окуджаве никто не знал. Нет, кто-то, конечно, и тогда его знал, но не все, как стало потом. Первое узнавание у каждого случалось по-своему. "По-своему" было и у меня.
В редакцию "Труда" - было это, наверное, году в 1958-м, примчался сильно взволнованный Стасик Куняев, сам в то время торивший тропу в поэтический цех, и сообщил, что сегодня в Доме железнодорожников, в литобъединении выступит какой-то новый поэт, но будет не читать свои стихи, а петь их под гитару!
Зальчик ЦДКЖ был набит под завязку - сплошь стихотворцы и их поклонницы. Выяснилось, что и у Стасика они уже есть. Но было не до них. Перед всеми на отдельном стуле объявился человек с гитарой - худой, большелобый, с темными усиками, подчеркнуто спокойный. Не сразу запоминающееся имя - Булат Окуджава. Видимо, то было одно из его первых публичных выступлений в Москве. Была, напоминаю, "оттепель", страхов убавлялось, поэзии прибавлялось, всяческие струны начинали петь.
Того, что принес с собой Окуджава, люди ждали, он оказался одноцентренным с ними, если воспользоваться словечком Толстого. Они, как и он, когда "невмочь пересилить беду", устремлялись в последний троллейбус, пассажиры которого "приходят на помощь", как и он они "носили на крыльях то, что носят на руках"... Окуджава попал в нерв времени с меткостью амура, поражающего готовое влюбиться сердце. Мы все влюбились в него сразу, безоговорочно, в каждую строчку, в каждую вроде бы простоватую, но покоряющую интонацию. Никто, кажется, об этом не говорил, но мне кажется, что Булат оказался сразу признан теми, кто вступал в зрелость после Сталина, потому, что он в гораздо большей степени, чем другие воевавшие поэты - Винокуров, Луконин, Слуцкий, Ваншенкин - соединил военное поколение с поколением тех, кто в войну были детьми. У него оказались одинаково слышимы и солдатские "грохочущие сапоги", и "безмолвный разговор" красивых и мудрых, как Боги, молодых влюбленных, чьи "тени качались на пороге"...
До магнитофонных записей, а тем более до первых публикаций песни-стихи Окуджавы уже передавались из уст в уста, как сказки в деревнях. Мелодии и слова легко ложились в память. Кстати, Александр Свободин сказал мне как-то, что спрашивал о музыке Окуджавы у Шостаковича. Тот ответил, что в музыкальном смысле она совершенно корректна и оригинальна. В те времена я, как и многие, быстро усвоил булатовский репертуар, в связи с чем был неоднократно приглашаем в разные дома именно потому, что там хотели "послушать Окуджаву".
К тому времени, когда публика уже искала Окуджаву, а он еще искал публику, относится приглашение его выступить в кафе "Артистическое", что располагалось в Камергерском переулке напротив старого здания МХАТа. Мы, молодые, там пропадали часами, по-нынешнему - "тусовались", наблюдая, как мхатовские мэтры - Белокуров, Ливанов, Станицын и другие вальяжно пересекали помещение, у буфетной стойки опрокидывали в себя фужер коньяка и, прожевывая конфетку, твердым шагом удалялись в сторону своего театрального храма.
Кто организовал ту встречу с Булатом, сейчас и не припомню; возможно, Игорь Ицков, будущий сценарист, лауреат Ленинской премии. Но - собрались. Старый швейцар, у которого всегда можно было взять в долг, запер дверь на медную задвижку. Булат запел. И вот в самый разгар пиршества нашего духа, противостоявшего запретам, на пороге возникла внушительная фигура в кожаном пальто, а за ней вторая.
Певец замолк. В тишине кто-то произнес: "Пришли брать!"
Но мужчины, ни на кого не глядя, прошли к буфету и через пару минут удалились. Оказалось - инкассаторы: не нас пришли брать, а деньги из кассы.
Оттепель оттепелью, а и те времена простыми не были. Комсомольская и прочая печать, придя в себя после первого впечатления, принялась разносить Булата в лучших традициях идеологической травли. Ленинградская газета "Смена" напечатала, а "Комсомольская правда" воспроизвела такой, например, "разбор": "...В творческой лаборатории Окуджавы есть беда более злая. Это его стремление и, пожалуй, умение бередить раны и ранки человеческой души, выискивать в ней крупицы ущербного, слабого, неудовлетворенного... Позволительно ли Окуджаве сегодня спекулировать на этом? Думается, нет! И куда он зовет? Никуда". Группа писателей собралась и вынесла по поводу Окуджавы специальное постановление: "Большинство этих песен не выражает настроений, дум, чаяний нашей героической молодежи".
А моим чаянием было позвать Окуджаву к нам в редакцию "Труда": пусть бы послушали, порадовались, может, написали бы... Я и позвал, но получилось "в духе времени". Только Булат закончил петь в нашем старинном, так называемом Красном зале, помнящем еще Сытина и Дорошевича, как поднялась ведущая очеркистка Вера Ткаченко, потом ее взяли в "Правду", и так пристыдила барда за упадничество, что не только солисту, но и всем слушавшим впору было бежать в партком каяться. Мне же пришлось сгорать от стыда перед гостем. Пригласил, называется... Надо сказать, что Булат в этой мало уютной обстановке сохранял олимпийское спокойствие. Видно, не первая была зима на волка. В озабоченности показать, что "не все здесь такие", предложил поехать ко мне домой: попеть и послушать без помех.
- Тогда надо что-то прихватить, - отвечал он, и мы спустились на первый этаж - в гастроном. Сейчас того гастронома нет, за просторными его витринами поблескивают иномарки. Взяли водки и яблочного с газом сидра, он продавался в бутылках из под шампанского и стоил 1 (один) рубль. Последнее - по предложению поэта. "Если смешивать один к одному, хорошо идет", - пояснил он.
Помчались на трех такси. По дороге я сказал Булату: "В песне о Леньке Королеве вы поете: "потому что на войне хоть и вправду стреляют". На слух воспринимается - стреляют "в правду". "Да, это плохо", - согласился он. Позже он стал петь не "вправду", а "правда", так стал публиковать и в сборниках. А я, с учетом моего предложения Юлиану Семенову назвать повесть "Майор Вихрь", вполне мог теперь рассчитывать на лавры того райкинского персонажа, который, застав Симонова за сочинением "Жди меня", посоветовал добавить "Только очень жди". Что тот и сделал...
В ту ночь Булат пел до рассвета. Круг слушающих был довольно пестр - тогдашний мой круг. Были, например, молодой физик-теоретик, известный балетный критик, юрист из Московского речного пароходства, два милиционера-криминалиста, оба, как и юрист, прошедшие войну. Был Саша Асаркан. Официально его можно считать театральным и джазовым критиком, писал он божественно, а неофициально - ссыльный без приговора. Как только в Москве планировалось нечто значительное - приезд Никсона, скажем, какой-нибудь всемирный фестиваль или международный конкурс, его заблаговременно высылали за 101 километр или помещали в психушку. Свои рецензии и заметки он никогда не подписывал собственным именем, а только псевдонимами: Налитухин или Тамаев. Это были, как он объяснял, фамилии его следователей. Иногда Налитухин и Тамаев спорили друг с другом, выступая в разных газетах, имея разные точки зрения на один и тот же спектакль. "Саша, - спрашивали мы Асаркана, - почему никогда не подписываешься собственным именем?" "А вот когда советская власть кончится, - отвечал он , - никто не сможет сказать, что Асаркан на нее работал".