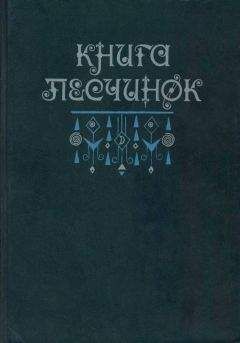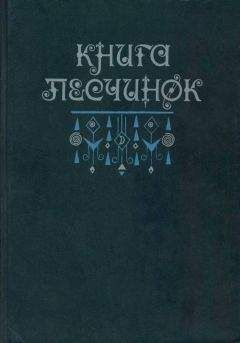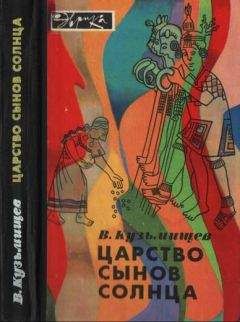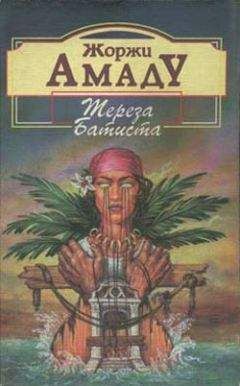— Так когда ты покажешь свой трюк? — поинтересовалась я.
Антонио не ответил. Он, не отрываясь, глядел на канареек, которые опять
порхали взад и вперед по комнате. Мандарин отделился от приятелей и, забившись в темный уголок, затянул песню, похожую на песнь горного жаворонка.
А мое одиночество росло. Своих тревог я не поверяла никому.
На страстной неделе Антонио еще раз оставил Руперто ночевать. Шел дождь, как это обычно бывает на страстной неделе. Мы отправились с Клеобулой в церковь, собираясь принять участие в процессии.
— Ну, как твой индеец? — нахально спросила Клеобула.
— Кто-кто?
— Индеец, твой муженек,— ответила она.— В городке его все так зовут.
Я всегда любила и буду любить индейцев, хотя мой муж тут ни при чем,— ответила я, пытаясь сосредоточиться на молитве.
Антонио сидел прямо-таки в молитвенной позе. Интересно, он хоть когда-нибудь молился? Моя мать попросила его причаститься перед свадьбой, но он не соизволил.
Тем временем дружба Антонио с Руперто становилась все закадычней. Мне казалось, их связывали узы искреннего товарищества, а для меня в этом мужском братстве места не нашлось. В те дни Антонио публично демонстрировал свое могущество. Он развлекался тем, что посылал к Руперто канареек с записками. Поскольку кто-то видел, как они однажды обменялись испанскими игральными картами, то поговаривали, будто друзья таким оригинальным образом играют в труко [204]. Они что, издевались надо мной? Эти забавы великовозрастных детин бесили меня, и я решила по возможности не принимать их всерьез. Или мне следовало признать, что дружба важнее любви? Антонио с Руперто ничто не могло разъединить, а вот от меня, хотя это было в общем-то несправедливо, Антонио отдалился. Моя женская гордость страдала. Рулерто по-прежнему глазел на меня. Неужели вся эта драма обернулась фарсом? Может у я просто тосковала по семейным сценам, может, во мне говорила ностальгия по тем временем, когда обезумевший от ревности муж изводил меня?
Но несмотря ни на что мы друг друга любили.
Антонио мог бы зарабатывать деньги, показывая свои трюки в цирке. Почему бы и нет? Мария Каллас склонила головку сначала вправо, потом влево и уселась на спинку стула.
Однажды утром Антонио ворвался ко мне в комнату и с таким видом, как кричат «Караул! Горим!» выпалил: «Руперто умирает. Он послал за мной. Так что я пошел».
Я прождала Антонио до полудня, занимаясь домашними делами. Он вернулся, когда я мыла голову.
— Пойдем,— велел Антонио.— Руперто у нас в патио. Я его спас.
— Как спас? Это что, была шутка?
— Вовсе нет. Я сделал ему искусственное дыхание.
Ничего не понимая, я поспешно заколола волосы, оделась и выскочила в патио. Руперто неподвижно стоял у дверей, уставившись невидящим взором в каменные плиты, выстилающие двор. Антонио пододвинул ему стул и предложил сесть.
На меня Антонио не глядел, он смотрел в потолок и, казалось, даже дыхание затаил. Внезапно к нему подлетел Мандарин и воткнул стрелку ему в руку. Я зааплодировала, решив, что Антонио, наверное, будет приятно. Но вообщето все это полнейшая глупость! Лучше бы Антонио не растрачивал попусту свой талант, а попытался вылечить Руперто!
В тот роковой день Руперто, садясь на стул, закрыл лицо руками.
Как он изменился! Я посмотрела на его безжизненное, холодное лицо, на темные руки.
И когда только они оставят меня в покое! Ведь пока волосы не высохли, мне нужно накрутить их на бигуди. Скрывая свое раздражение, я спросила Руперто: «Что стряслось?»
В ответ последовало долгое молчание, натянутое, как тетива лука; на его фоне особенно четко выделялось пение птиц. Наконец Руперто сказал: «Мне приснилось, что канарейки клюют мои руки, шею, грудь, я хотел было защитить глаза, но не мог сомкнуть веки. Руки и ноги мои отяжелели, словно к ним были привязаны мешки с песком. Я был не в силах отогнать чудовищные клювы, выклевывающие мои зрачки. Я как бы грезил наяву, одурманив себя наркотиками. Очнувшись от этого странного сна-яви, я оказался в темноте; однако с улицы доносилось пение птиц и прочие звуки, говорившие о том, что день в полном разгаре. Мне стоило неимоверного труда позвать сестру, которая прибежала со всех ног. Не узнавая собственного голоса, я сказал: «Ты должна послать за Антонио, чтобы он пришел и спас меня».— «От чего?» — спросила сестра. Но я не смог больше вымолвить ни слова. Сестра кинулась к вам и через полчаса вернулась вместе с Антонио. Эти полчаса показались мне вечностью! Антонио делал мне искусственное дыхание, и постепенно силы возвращались ко мне, а вот зрение — нет.
— Я сделаю вам одно признание,— пробормотал Антонио и с расстановкой добавил: — Только без слов.
Фаворитка последовала примеру Мандарина и воткнула стрелу Антонио в шею; Мария Каллас зависла на мгновение над его грудью, а потом вонзила и в нее маленькую стрелку. Пристально глядевшие в потолок глаза моего мужа внезапно изменили цвет. Неужели Антонио — индеец? Но разве у индейцев бывают голубые глаза? Почему-то сейчас его глаза были похожи на глаза Руперто.
— Что все это значит? — пролепетала я.
— Чем он там занимается? — спросил ничего не понимавший Руперто.
Антонио не ответил. Застыв, будто статуя, он терпеливо сносил уколы внешне безобидных стрел, которые втыкали в него канарейки. Я подскочила к кровати и принялась тормошить его.
— Ответь мне! — просила я.— Да ответь же! Что все это значит?
Но он не отвечал. Я обняла его и, разрыдавшись, припала к его груди; позабыв про стыд, я целовала его в губы, словно какая-то кинозвезда. Над головой у меня порхала стайка канареек.
В то утро Антонио глядел на Руперто с ужасом. Теперь-то я понимаю, что Антонио виноват вдвойне; стремясь замести следы своего преступления, он заявил — сначала мне, а потом и во всеуслышание: «Руперто сошел с ума. Он думает, что ослеп, но на самом деле видит не хуже нас с вами».
Подобно тому как в очах Руперто померк свет, в нашем доме померкла любовь. Видимо, без его взглядов она существовать не могла. Наши посиделки в патио утратили свою прелесть. Антонио ходил мрачнее тучи.
— Безумие друга ужаснее, чем его смерть,— приговаривал он.— Руперто прекрасно все видит, но считает себя слепым.
А я, задыхаясь от гнева и, наверно, от ревности, думала, что дружба для мужчины гораздо важнее любви.
Оторвавшись от губ Антонио, я вдруг заметила, что канарейки вот-вот вопьются ему в глаза. Тогда я заслонила его собой, своими волосами: они у меня густые и накрыли его лицо, будто одеялом. Я велела Руперто закрыть дверь и окна, чтобы в комнате стало совсем темно и канарейки уснули. Ноги у меня болели. Сколько времени я так просидела? Бог весть. Постепенно до меня доходил смысл страшного признания. А когда дошел, я в исступлении, в горестном исступлении припала к мужу. Ведь я поняла, как ему было больно, когда он замышлял и приводил в исполнение свой хитроумный план, решив с помощью яда кураре и стайки маленьких пернатых чудовищ, которые, как преданные няньки, выполняли любую прихоть Антонио, принести в жертву любви и ревности глаза Руперто и свои собственные, чтобы им, бедняжкам, впредь было неповадно смотреть на меня.
Лет сто назад жил да был торговец, занимавшийся исключительно продажей лестниц. Двор его заведения — внутренний двор с глухими обшарпанными стенами — был сплошь уставлен лестницами: здесь были скромные стремянки, высоченные конструкции, подобно тоннелям взмывавшие внутри сложной железной арматуры, короткие крылечные лестницы и лестницы, которые, порывисто бросившись на штурм дворовой стены, тут же теряли свой пыл, оставаясь неприглядными фрагментами начального замысла. А над всем этим сообществом громоздилась большущая раковинообразная лестница, которая возвышалась даже над крышей дома и в сумерках походила то ли на башню, то ли на шею некоего гигантского безжизненного животного.
Однажды вечером, когда торговец и его помощники завершили дневные дела, на большой лестнице заслышались тихие, осторожные шаги. Торговец, человек от рождения раздражительный, спросил, какой дьявол развлекается, прохаживаясь в такой час по его конструкции, но помощники лишь оторопело поглядели на него и ничего не ответили, а шаги стали приближаться, хотя и не было видно, кому они принадлежат,— мешали излишне высокое ограждение и сгущавшиеся сумерки. Тогда-то и воцарилась странная тишина, не нарушаемая ни грохотом телеги по каменной мостовой, ни даже стрекотом цикады в траве, которой порос двор.