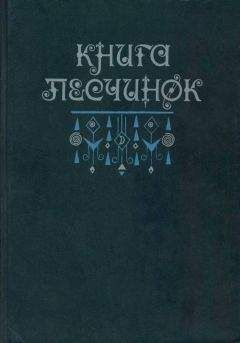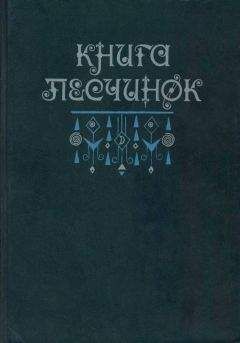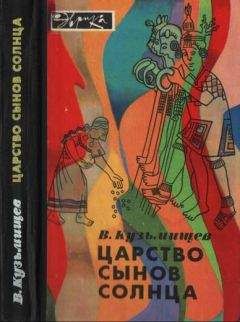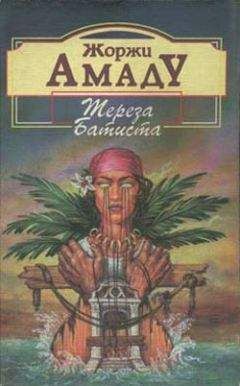Утро было прохладным, а солнце приятно улыбчивым. Вспоминаю таинственно уединенные пальмы, вспоминаю замкнутое быстрое перешептывание сосен и рассеянное безразличие облаков; я застыл в неподвижности, сам того не замечая, и вдруг услышал шум, протяжное клекотание, издаваемое костями, когда их беспорядочно вываливают на стол. Хотя я и не смог бы в точности передать отличие того дня, тающего в моих смутных воспоминаниях как один из бесчисленных островков, я помню, что, желая сгладить смутную брезгливость от вида грязных пятен на белой спине, я попытался похоронить и свою неприязнь к газетам, и недоумение при виде пустоглазых лавочников в фантастическом вымысле. «Все дело в том,— сказал я сам себе,— что Домино нуждается в этом человеке, нуждается в нем, как в желудке для переваривания и усвоения пищи, в результате чего возможна сама жизнь, а значит — и наилучший образ или высшая форма существования Домино. Если прежде Домино было у него в услужении,— говорил я и сам улыбался своему красноречию,— то сейчас он раб Домино, сейчас он ест для Домино, думает для Домино, которое пользуется им, как душа телом, в конечном счете живет для Домино». И еще вспоминаю, что, порадовавшись своему красноречию, я вдруг словно пробудился от фантазий и почувствовал ужас, от которого тут же отмахнулся, погрузившись в будничную дрему.
Сколько дней прошло с того фантастического домысла, который в другую пору показался бы абсурдным и тривиальным, не берусь уточнять, как ни цеплялся я за него, пытаясь заменить реальность выдумкой, в надежде, что удастся обмануть собственную печаль, утешившись изобретательной грезой. Все усилия шли насмарку — с первыми же лучами субботнего утра мне открывалось гнусное и до оскомины размеренное засасывание трясины: сперва человек испытывает едва ощутимую дрожь нетерпения, потому что никак не дождется часа возвращения домой (именно в эту пору и происходят сцены в лавках). Затем, по прошествии нескольких дней, он становится все нетерпеливее, когда — шутка ли! — на целый день покидает дом, зачем-то расставаясь с улыбающимися в своей раковине костями, чтобы заниматься раздражающими, да и бесполезными делами, хотя и признаваясь себе самому, что в сущности, они необходимы для сохранения декорума в гостиной, давшей приют Домино, и для того, чтобы питать силы, необходимые для игры. И однажды заболевает, начиная без устали бормотать о том, что все надо к черту бросить и бежать в святилище,— именно тогда я и встретил его на лестнице. И все это время последняя видимость здоровья и достоинства прикрывает трогательный обман, никто не признается себе, насколько притягательной становится бездна.
Вчерашний вечер показал, что мы вступили в конечную фазу — упоение достигло высшей, нескончаемо звучащей ноты,— даже голод, казалось, никогда не обладал подобным могуществом.
С самого воскресного утра ощущалась странная взвинченность, бесповоротно завладевшая и самыми невозмутимыми. Они брели с безумной, неумолимой решимостью. Этот вездесущий, хотя и поутихший с некоторых пор шум, каким является хрип улицы, снова стал расти, как приступ бешенства, пока не разразился в полдень абсолютной, оглушающе полной тишиной, способной погасить даже шум на верхнем этаже.
А я — как я избежал засасывания этой трясины? Я не хотел бы выдавать себя за героя или за жертву. Разве все мои помыслы (что и понуждает меня к молчанию) не отданы мной другому, пусть и более скромному идолу, который — я хорошо понимаю это — должен довольствоваться одним-единственным жертвоприношением — моей растянутой на всю жизнь жизнью?
Передышка кончилась. Эти далекие однообразные звуки, на мой слух,— те же, что и неописуемый грохот, царящий наверху: безукоризненный гул — чистый, костяной, обнаженный,— конечный стук слоновой кости о слоновую кость, и к нему присоединяются глухие и жадные удары по дереву — несомненно, этот напев — самый бездушный и нелепый из всех.
Я спрашиваю себя, какое время мы сможем еще продержаться в нашем опустевшем городе. Недолго: Домино догрызает его, он начинает разрушаться.
Я не останусь в нем — невыносимо слышать, как с каждым разом все слабее, замедленнее сытые клацания его холодных безумных клыков!..
— Мне никогда не снились,— сказал он,— из ряда вон выходящие сны. Хоть бы раз приснилось какое-нибудь необычные приключение — и простое ни разу не приснилось. Снятся мне только места. Да и в них тоже ничего романтичного, никаких там замков или подземелий, джунглей или бурных рек. Места, которые я вижу во сне,— просто места, которые вполне могли бы встретиться наяву. Но только в тысячу раз интересней, сказать вернее, в тысячу раз привлекательней.
Спичка наконец испустила дух, лениво задымила сигара, человек с наслаждением откинулся на спинку кресла.
Оба положения,— заявил он со странной педантичностью, совершенно неуместной, но с некоторых пор неискоренимой в нем,— оба положения подтверждаются следующим прелюбопытным совпадением: время от времени приснившиеся мне места возникают, а вернее, вторгаются в жизнь.
Официантка, розовощекая толстушка, прервала на этом месте его сообщение, осторожно поставив на мраморный столик две покрытые пеной кружки пива. Рассказчик улыбнулся — они не первый год были знакомы — и приготовился продолжать, но она, тихонько причмокнув, воскликнула с сожалением:
— Профессор порезался!
Несколько озадаченный профессор вспомнил, что на его левой руке, почти на конце указательного пальца, была плохо затянувшаяся ранка.
— Не стоит внимания,— сказал он, пожав плечами и пряча под стол объект вялого профессионального интереса, выказанного его другом-врачом. Между тем официантка скрылась в темной комнатенке за прилавком.
— Эти места,— продолжил профессор, нахмурив брови,— вполне могли или должны были бы существовать в нашем квартале, а наталкиваешься ты или не наталкиваешься на них — зависит от какого-нибудь случая, не такого уж и невероятного, если вдуматься. Например, знаете ли вы — а ведь ваш кабинет расположен рядом с моим домом,— знаете ли вы улочку под названием Химера? — И так как тот отрицательно покачал головой, благосклонно продолжил: — Конечно, не совсем достойно ошарашивать названием, на которое сам набрел случайно, впрочем, спроси я у вас об улице 32-В, думаю, ответ был бы схожим... Так вот, когда вы пройдете по ней, а вы не станете отрицать, что любопытство приведет вас туда сегодня же вечером, в крайнем случае завтра утром, вы убедитесь, что место это из ряда вон выходящее: улочка похожа на полумесяц в тени ив — представляете! — и вся такая печальная. Прямо не от мира сего, скажете вы. И в некотором смысле будете правы,— заключил профессор, потирая висок пораненным указательным пальцем.
Пальцем, которым неожиданно завладела официантка, подвергнувшая его беззастенчивым нападкам йода.
— И однако,— продолжил он с гримасой смирения,— недавно произошли некоторые тревожные отклонения от нормы. Можете ли вы себе представить, что человек, подобный мне, выставляет окно в чужом доме, пусть и необитаемом, пусть даже и во сне?! Неубедительно даже и для сна, сказали бы вы! Причем внутри дома, в темном коридоре, я вдруг останавливаюсь перед дверью. Из далекого замызганного окна в коридор проникает слабый свет. А передо мной дверь с глубоким бестолковым рельефом, какой бывает у очень старых дверей. Я берусь за большой бронзовый набалдашник ручки и ощущаю невероятный холод — это страх перед тем, что скрыто за дверью, ужас перед тем, что по ту сторону. Подумайте, разве не абсурд! Даже во сне — что особенного могло со мной случиться?..
— Несчастье! Боже, вам грозит несчастный случай! Какой жуткий обрыв линии жизни! — маленький белоснежный палец официантки так и запрыгал по ладони профессора.
Хмурым ранним утром — в такие серые утра нас охватывает сомнение, не вечерние ли это сумерки,— доктор вышел пройтись, чтобы развеяться после того, как ночью от неожиданного приступа скончался его друг. Вызов по телефону разбудил весь дом, но, прибыв на место, он застал лишь маску ужаса, сковавшего лицо, так что визит был нанесен лишь для проформы. И вот что любопытно: хотя и не молодое, сердце друга хорошо приноравливалось к медленному течению его лет и могло обеспечить ему долголетнюю старость.
Кто-то тронул его за рукав: доктор поднял глаза и увидел на своем локте руку, очень белую дрожащую руку, и скорбное лицо официантки, запричитавшей:
— Иду на работу и узнаю...
Да-да,— ответил еле слышно доктор.— Он умер мгновенно, как вы и предсказывали. Разве что во сне.— Тут он заметил, что они как раз находились на изгибе затененного ивами полумесяца, среди очень странных домов с остроконечными кровлями. И, оставив ее там, около решетчатой калитки безлюдного дома, на которую она положила чрезмерно белую руку (такие калитки с коваными железными цветами бывают лишь в очень старых домах), он устало побрел в сумерках вниз по улице Химеры.