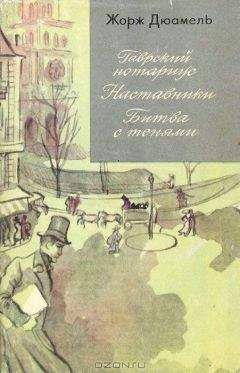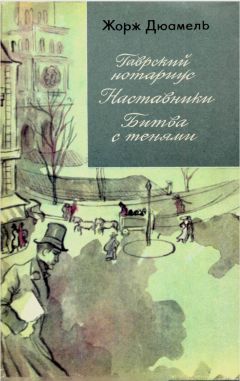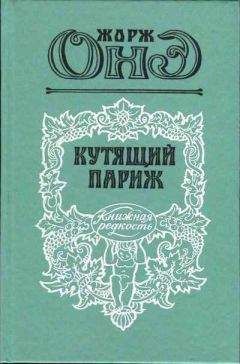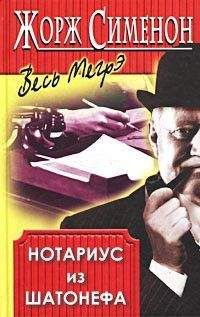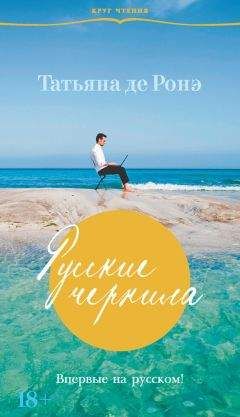— Правильно поступаешь, что защищаешься. Оставь мне его, я сделаю все необходимое. Но надо сообразить. Дай мне время подумать.
Мне не оставалось ничего другого, как набраться терпения. Я, конечно, вполне преуспел бы в этом, но, к несчастью, на другой день после разговора с Вюйомом, ко мне в лабораторию явился Рок. Он пожаловал, чтобы показать мне две крошечных заметки, появившиеся в «Рыжей лягушке» — мерзкой газетке, занимающейся шантажом; ты намекаешь на нее в конце своего второго письма. Когда меня, Лорана Паскье, называют «хулителем скромных тружеников», это может только рассмешить меня. Нельзя придавать особого значения и тому, что какой-то малограмотный писака осмеливается вопить: «Нет сил дольше терпеть зазнайство так называемых ученых». Но когда я читаю: «Господин Паскье, обливающий грязью своих преданных сотрудников, просто-напросто дурной пастырь. Кроме того, о мнимых научных заслугах господина Паскье у нас имеются конфиденциальные сведения, которые мы можем предоставить в распоряжение интересующихся... » — когда я читаю фразы вроде этой, я готов зарычать от бешенства.
В Париже все развертывается очень быстро. Подумай только — ведь первые дни после появления моей статьи я с каждой почтой получал по нескольку сочувственных писем, как от людей мне незнакомых, так и от товарищей и учителей. Теперь почти неделю я не получаю ничего. Не без колебаний отправился я на последнее заседание Общества научных изысканий. Народу было очень мало. Может быть, я ошибаюсь, но мне показалось, что кое-кто из присутствующих посматривает на меня косо. Я изнервничался и поэтому, возможно, склонен видеть все в более мрачном виде, чем оно есть.
Я изнервничался, но — поверь — я сопротивляюсь. Я был у Лармина, чтобы попробовать объясниться с ним. Не знаю, какую роль он играет в своего рода заговоре, который собираются сколотить. Я предпочел бы ясность. Директор велел передать мне, что не принимает. И действительно, он сейчас не показывается ни в одном из отделений Института.
Гораздо больше, чем все это, огорчает меня, дорогой мой Жюстен, то, что я замечаю у своих препараторов, ассистентов, лаборантов какую-то сдержанность и недомолвки. Конечно, это пустяк, но это беспокоит меня. Я хорошо знаю этих славных тружеников. Когда у одного из них болит голова, когда другой повздорил с женой или имеет основание попрекнуть меня в какой-либо мелочи — я сразу чувствую это. Как правило, достаточно мне сказать слово — и тучи рассеиваются. В настоящее время я не решаюсь сказать что-либо, я не хочу подливать масло в огонь. Возможно, что стараются науськивать их на меня. Кто же старается? Лармина? Повторяю, его никто здесь сейчас не видит. И не слышит. Он даже прекратил рассылку своих излюбленных «служебных записок». В эти дни Лармина превратился в нечто мифическое, в какое-то баснословное существо.
В субботу мне стало известно, что Жозеф возвратился в Париж. Вюйом не подавал никаких признаков жизни, а я подумал, что мой «ответ» не может ждать бесконечно и что я ничем не рискую, если нажму на другую педаль, то есть если обращусь к Жозефу.
На прошлой неделе я, совсем растерявшись от изумления и горя, вкратце сообщил тебе о чудовищной выходке отца. Я от тебя никогда ничего не скрывал. И на этот раз, как всегда, мне не хотелось оставлять тебя в неведении. Ты мог приехать в Париж, зайти на бульвар Па-стера и задать какой-нибудь неуместный вопрос. Словом, я тебе все рассказал, хоть и немного наспех. А ты пользуешься моей откровенностью, чтобы язвить на мой счет! Как это милосердно! Русские романисты описывают чудесные превращения грешников, коленопреклонения, искупления, вероятно, именно потому, что они хотят утешиться в том, что создали таких героев. Увы, я попробовал утешиться, не думать о поведении папы, Жозефа и Фердинана. Эти три персонажа, к несчастью, не мною созданные, считаются только с собственной волей, и они откровенно напомнили мне об этом. Ты говоришь: «Итак, ты остаешься все таким же! А ведь тебе тридцать три года». И то правда: я все такой же дурачок. Я не изменяюсь, раз по-прежнему надеюсь, что в один прекрасный день другие изменятся и, быть может, изменюсь я сам.
Но оставим это, прошу. Каждый вечер я бываю на бульваре Пастера, и эти посещения зачтутся мне, когда я окажусь в чистилище.
Я виделся с Жозефом в субботу, перед его отъездом за город. Машина уже ждала его у подъезда. Он был не в духе. Он стал бормотать какие-то странные фразы:
— Я не хочу, чтобы властелином моей жизни стала привычка. Привычка требует ехать в это время года в Мениль. А мне наплевать — мы отправимся в Барбизон. У меня два загородных дома, и я имею полное право выбирать.
И в самом деле, у них два дома, другими словами, два роскошных барских поместья (не считая виллы на Лазурном берегу). Одно из них в Мениль-сюр-Луаре, другое около Барбизона. Последнее было куплено в прошлом году после пожара в Пакельри. Элен говорила мне, что Жозеф каждый раз колеблется — куда им ехать: в Ме-ниль или в Барбизон? Решение он принимает в последнюю минуту, и всякий раз у него такое чувство, что он ошибся в выборе и что надо было ехать в другое имение. Элен уже становятся невмоготу эти постоянные дрязги: Жозеф, вероятно, тоже страдает — от роковой неудовлетворенности. Нельзя находиться одновременно во всех своих вотчинах, а всякий раз, как он отправляется в одну из них, ему недостает других. Обладание прочими материальными благами несет ему, несомненно, еще более тяжкие мучения. Однажды он косвенно признался в этом, сказав:
— Везет же тебе, Лоран, что у тебя ничего нет за душою!
У него множество дел, и они требуют от него сверхчеловеческих усилий. Они все растут и порою ускользают из-под его власти.
Я спросил — может ли он уделить мне десять минут. Он ответил, поморщившись:
— Конечно, могу. Значит, я просижу на десять минут меньше в противном обществе, которое мне отнюдь не интересно и куда я все-таки должен пойти, потому что надо же куда-то идти.
Мы вошли в его рабочий кабинет, и я без обиняков спросил, не может ли он мою статейку с возражениями напечатать в «Обозревателе», хозяином коего он является, как он сам мне в этом признался. Я думал, что это самое простое дело. Жозеф стал откашливаться. Он прочищал себе горло и ворчал:
— Зачем ты сунулся в такую кляузную историю? После нашего разговора я думал о ней. Позволь сказать тебе, что ты не прав. Пресса против тебя. У меня тонкий нюх.
Он довольно долго разглагольствовал в этом духе. Я чувствовал, как во мне вскипает гнев. Он, вероятно, понял это, ибо вдруг резко изменил тон. Он сопел и, подчеркивая каждое слово, поднимал кверху указательный палец.
— Раз все против тебя...
— Вовсе не все против меня...
— Дай мне сказать. Раз все против тебя, значит, тут что-то неладно. Ты поступил неосторожно, поступил опрометчиво. Не спорь, не спорь, так мне сказали. Ты ведь знаешь, у меня собственные осведомители. Говорю прямо: на «Обозревателя» ты не рассчитывай. Да и не следует впутывать газету, прежде всего экономическую, в дела вроде твоего. Пожалуй, еще скажут, что тебе платят...
— Платят? Да ты с ума сошел.
— Скажу не я, скажут негодяи.
— Кто мне платит?
— Ну, владельцы химических заводов, например.
— Владельцы химических заводов? За что?
— Тут дело в конкуренции. Конкуренция сказывается во всем. Платить, думаю, могут те, кто заинтересован в опорочении сывороток. Впрочем, не знаю. Это не по моей части.
Все это было действительно темно, но и в потемках я почувствовал раскрывшиеся бездны: деловой ад. Я еще не пришел в себя, как Жозеф сказал:
— Вдобавок не забывай, какое имя ты носишь.
— Что?
— Люди вроде тебя, люди ученые должны бы пользоваться псевдонимами. Возьми папу. Глупости свои он творит под псевдонимом.
Я чуть было не рассмеялся; это спасло меня от приступа гнева. Я спросил:
— Уж не вам ли, дельцам, надо предоставить честь носить фамилию семьи и прославлять ее?
Он даже ничего не ответил, он уже думал о другом. Он сказал, улыбнувшись:
— Сесиль вернулась. Ее гастроли в Швеции были подлинным триумфом.
Я собрался улизнуть, и он проводил меня до передней, даже до лестницы. Он говорил тише, с улыбочкой, за которую мне было стыдно. Он сказал:
— Оказывается, Сесиль стала теперь на редкость набожной. По-моему, это очень хорошо. Религия, дорогой мой, одно из самых сногсшибательных явлений нашего никудышного времени. Да, да! Сам я, разумеется, неверующий, но я преисполнен уважения к вере окружающих. Да и вообще я человек терпимый.
Я чуть не закричал от негодования. Тут он склонился почти мне к самому уху. Он шептал:
— Думай что хочешь: время от времени я даю Мересу деньги, чтобы он поставил свечку. От моего имени, разумеется.
Я знал об этом: Мерес-Мираль мне говорил. У меня даже есть некоторое основание предполагать, что милейший Мерес-Мираль прикарманивает эти деньги, а Жозеф, как все чересчур хитрые люди, сам поощряет его плутни.