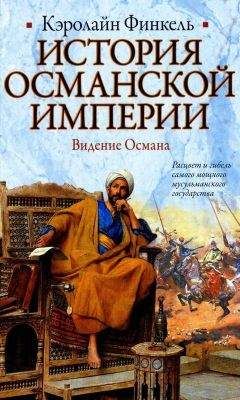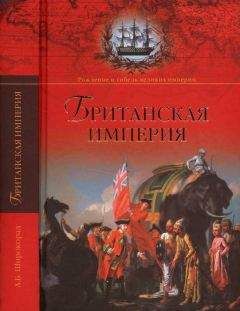Российский и тюркский народы на протяжении большей части времени существования империи не имели возможности выбирать во власть своих представителей, а имперская правящая элита ни в каком смысле не была ответственна перед народом имперского центра. Вместо того элита преследовала свои собственные интересы, которые она выдавала за интересы империи. Члены имперской элиты могли происходить, а могли и не происходить из основного народа империи, могли проявлять заботу о его культурных и экономических нуждах, а могли и не проявлять. В разные времена это происходило по-разному. К примеру, в большевистской элите первого призыва преобладали евреи и поляки по происхождению и космополиты по культуре. В политике они были «марксистами-интернационалистами» и весьма враждебно относились к традиционным русским ценностям и традиционным элементам русской политической идентичности. К концу брежневского правления в элите стало гораздо больше русских по происхождению, что отчасти было результатом огромной социальной мобильности, характерной для сталинской эпохи. Но эти русские высшие партийные чиновники имели за своими плечами десятилетия работы в партийном и государственном аппарате и, отгороженные в буквальном смысле забором от остального русского общества, вели привилегированное существование. Они дальше отстояли от своего общества, чем представители политических элит на Западе, поскольку им не приходилось заботиться о своем переизбрании, а также отчасти потому, что их привилегированный образ жизни при социализме никогда не был полностью легитимным и, следовательно, лучше всего было прятать его подальше от глаз народа. В период своего расцвета османская элита, очень часто нетюркская по происхождению и объединяющая в себе элементы смешанной исламской, арабской и персидской культуры, была еще более далека от простых турок. Турецкий язык османского двора был малопонятен анатолийскому крестьянину, и имперская элита использовала термин «турок» в значении «мужик», «деревенщина».
В последние десятилетия советской и Османской империй многие русские и турки не видели в них «свою» страну. Руководящие кадры обеих империй все больше состояли из представителей основного народа, обе империи могли считаться защитницами русских и турецких интересов от внешних врагов, а имперская идеология утверждала, что русским и туркам уготованы главные места в мировой политике великих держав. Тем не менее отношения основных народов и империи всегда оставались двусмысленными. Простые русские люди имели все основания сомневаться в том, что их империя действительно служит народным интересам, поддерживая коммунистические режимы в Восточной и Центральной Европе при помощи российской нефти и газа или тратя огромные суммы на соперничество с Соединенными Штатами в области вооружений и освоения космического пространства, а также всеми способами поощряя международное коммунистическое движение. Кроме того, для многих русских мысль о том, что они живут в империи, была неприемлема как раз потому, что, будучи убежденными марксистами-ленинцами, они считали, что империя обогащает народы метрополии, в то время как советская империя требовала от России только все новых и новых жертв. Простые турки имели еще больше оснований полагать, что являются жертвами, а не бенефициантами империи. Налоги и рекрутские наборы лежали на обнищавших анатолийцах даже более тяжким бременем, чем на русских, и никак нельзя было понять, какую выгоду преследует турецкий крестьянин, защищая османское правление на христианских Балканах или в арабских провинциях.
В империи Габсбургов отношения между австрийскими немцами и габсбургским государством также были довольно неоднозначными, особенно в последние десятилетия империи. В большей степени, чем турки в 1914 году, и в гораздо большей степени, чем русские при советском режиме, австрийские немцы представляли собой довольно разношерстную группу, состоявшую из различных общин, а не единый народ, не говоря уже о политически сознательной нации. Разумеется, габсбургское государство ни в коей мере не чувствовало себя ответственным перед этим «недонародом». С другой стороны, немецкий был внутренним языком офицерского корпуса и центральной бюрократии, и обе эти группы, как правило, состояли из немцев по этническому происхождению и культуре. Немецкие элиты в целом легче отождествляли себя с этим государством, чем венгры, чехи или другие народы монархии. Многие австрийские немцы видели в государстве средство, которое выводит их на ведущие культурные и геополитические роли в мире. Как и в случае отношения русских к Советскому Союзу, взаимоотношения австрийских немцев с империей Габсбургов были весьма амбивалентными и менялись в зависимости от эпох, классов и регионов. Сравнение в этой области может оказаться весьма точным и впечатляющим.
Что же касается отношений государства с ненемецкими народами, то по сравнению с внутренней политикой Австро-Венгрии и в еще большей степени с идеями австрийских марксистов советская эпоха представляется в весьма незавидном свете. Австрийские марксисты по горькому опыту своей страны отлично знали, что происходит, когда в политике начинают преобладать конфликты различных народов по поводу культуры, языка, образования и контроля над спорными территориями, Они понимали, что эти конфликты становятся особенно острыми при демократии и могут уничтожить всякую надежду на ее развитие, не говоря уже о продвижении к социализму. Эта логика стояла за их схемой «национальных университетов», которая была разработана по принципу милета, чтобы дать разным народам автономию в вопросах культуры, языка и образования.
Могла ли австрийская практика или идеи австрийских марксистов привести к национальным разногласиям (пусть и в допустимых пределах), остается спорным вопросом. Ясно только, что советское решение пренебречь моделью австрийских марксистов и взять вместо этого на вооружение федеративную систему оказалось в конечном итоге фатальным для Советского Союза, Хотя федеративная модель, и особенно та форма, которую она приняла в СССР, ни в коем случае не была единственным и безальтернативным вариантом. До 1917 года эта модель безоговорочно отвергалась большевиками, которые видели в ней угрозу единству партии и боялись, что она сделает национальные различия еще более неподатливыми и долговечными. Напротив того - большевики заявили, что намерены предоставить всем народам царской империи право на самоопределение и сохранить унитарное государство в любой стране, которой они будут управлять. Однако, оказавшись у власти, большевики кардинально изменили свое отношение к этому вопросу, К тому же самоопределение народа, чья территория была со всех сторон окружена российскими землями, в любом случае оказывалось неосуществимым. Поскольку большевики в эти первые годы остро нуждались в поддержке нерусских регионов, были в оппозиции русскому национализму и страстно желали дать миру пример социалистического равенства народов, они более или менее случайно натолкнулись на идею федерализма. И Ленин, и Сталин пришли к выводу, что это будет наилучшим практическим решением проблемы национальностей. Тем не менее решение создать в 1922-1924 годах федеративную систему республик, каждая из которых по идее обладала равными правами с Россией, в том числе и теоретическим правом на отделение, принадлежало в основном Ленину. Это один из многих примеров, который подтверждает, что стечение обстоятельств и отдельные личности имеют судьбоносное значение для расцвета и упадка империй.
Многие территориальные образования Австрии (коронные земли} не совпадали с этническими границами, что зачастую вносило некоторую путаницу в националистическую политику. Тогда как федеративные республики, созданные Москвой, были специально задуманы как национальные территории, где одна нация обладает культурной и этнической идентичностью и доминирует на правительственных постах. В конституционной теории и символически эти республики были гораздо ближе к суверенным государствам, чем австрийские коронные земли, К тому же они обладали правом на отделение. Таким образом, принимая во внимание, что все республики изначально были включены в состав Союза насильственно и это произошло на памяти еще живущего поколения, не было ничего удивительного в том, что, едва обретя минимальную политическую свободу, Союз прекратил свое существование в том виде, в каком он был задуман. Фактически советская федеральная конституция существовала только для показухи. Реальная власть принадлежала не республиканским государственным институтам, а республиканской коммунистической партии, в централизованном порядке подчинявшейся указаниям из Москвы. Но даже тот уровень автономии, которым располагали республики в 1920-х годах, мог при некоторых обстоятельствах и при условии его сохранения привести к требованиям еще большей свободы от центра. Что, безусловно, поставило бы Москву перед необходимостью серьезных компромиссов с республиками в распределении ресурсов и определении долгосрочных целей и стратегий. Отчасти для того чтобы избежать этой ситуации, Сталин отказался от национальной политики 1920-х годов и беспощадно уничтожил нерусские элиты, которые сам режим создавал и культивировал. И хотя после его смерти подобная широкомасштабная расправа больше ни разу не повторялась, страх и инерция, порожденные воспоминаниями о терроре, сыграли огромную роль в сохранении Союза и сведении на нет заложенного в федеративной системе риска распада страны. Но как только Горбачев сделал советскую политику более либеральной и объявил о своей приверженности правовым нормам, присущая советскому федерализму уязвимость стала очевидной и во многом способствовала дезинтеграции Советского Союза.