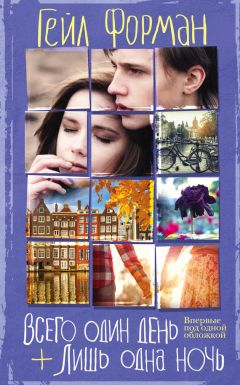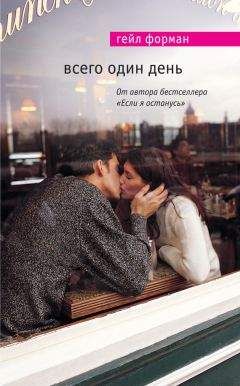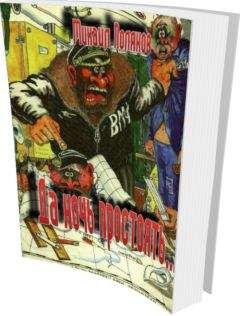– К машине! – командует Боря своей группе.
– По коням! – бросаю в седла своих конников я. – Эх, нам бы ночь продержаться да день про-стоять.
Мы едем по тылу с включенными фарами на «ГАЗ-66». Вернее, Федя их включает, когда едет вперед. Впереди две тройки на лошадях, во главе со мной на максимальной дальности от автомобиля. Сначала мы проверяем дорогу до следующего поворота, потом шишига несется до кавалериста, который ждет машину, чтоб обозначить точку следующего ожидания. Расчет на то, что лошадь для туркмена животное почти священное. И то, что темно. Значит, сразу стрелять не будут. Подумают, свои. Мы ж для них второй сорт. На лошадях не ездим. Ничего в них не понимаем. Откуда у нас лошади? Пусть поудивляются. Лошади сами чуют дорогу. По тылу все явственнее пахнет гарью. Животные беспокоятся. Но мы даем им шенкелей в бока и переходим с рыси на тяжелый и медленный галоп, рискуя сломать себе шею. Нашу колонну никто не пытается остановить. Около четырех тридцати утра стрелок, который едет впереди, останавливается. Чуть запоздало тормозим и мы все, следующие за ним. Одна лошадь на скорости врезается в зад той, что уже успела остановиться. Получает дуплет копытами в грудь и чуть не валится от такого отпора. Лошади что-то чуют. Разгоряченные кони нервничают. Они чуют запах смерти, горелого и разлагающегося мяса там, за последними сопками, которые отделяют нас от выхода на шоссе, ведущее к арчабильской заставе. Гранатометчик-водитель Федя, стрелок с портпледом, пулеметчик с коробками и вторым номером с теми же коробками, прибор ПНВ со мной и радиостанцией, и снайпер с ночным прицелом бегут со мной на господствующую сопку. Две тройки обтекают возвышенность слева и справа. Остальные привязывают лошадей к груде металлического лома возле кучи мусора за сопкой. И отпускают подпруги. Распихивают дополнительные пачки патронов по карманам и сидорам. Притягивают ремешки касок. Надевают бронежилеты. Прыгают. Валятся на землю, ползают, приседают, встают на колено, чтоб окончательно подогнать под себя неудобную амуницию устаревшего образца. Эх, не успел я у соседей в гостях-то побывать. Ничего, разберемся. Группе на сопке двигаться не придется. Их задача – держать под обстрелом шоссе, развалины заставы и начало поселка. Это мой козырь. Господствующая высота. Грунтовка, по которой мы ехали ночью, выходит здесь на асфальтовое шоссе, огибая эту высотку слева. Справа тоже можно обойти горушку, но уже только пешком или в конном порядке.
Вдоль шоссе влево был поселок. Сейчас там тишина и остовы жилья. На отдельных деревьях, кото-рые выстояли, вдоль речушки, параллельно которой идет шоссе, нет листьев. Остальные лежат вдоль дороги и речки буреломом. Но на самой дороге до самого того места, где я вижу очертания развалин заставы, нет препятствий. Кто-то убрал их для себя. Или кого-то заставили почистить трассу. Я вглядываюсь в ПНВ и ни черта не вижу дальше подножия нашей сопки. Ночь начинает отступать. На востоке чуть светлеет небо. Но еще достаточно темно.
Я бегом спускаюсь вниз к своей правой тройке. Левая следует за нами. За ней еще трое пограничников. Мы выходим на шоссе и, скрываясь за буреломом, идем до поворота с шоссе на заставу. Сто метров. Вот он, поворот. Дальше триста метров почти открытого пространства вдоль асфальтированной дороги. Вот что значит показная застава. Асфальт. Впереди что-то выделяется. Это ж грузовик! «КамАЗ»! Трехосный бортовой. Рядом такой же «КамАЗ» с цистерной. Долой броник. Такое богатство одним часовым охранять не будут. Одну тройку с пулеметом, снайпером и вторым РПГ я оставляю здесь под прикрытием бурелома. Две тройки распыляю, укладываю и посылаю за собой ползком в сторону грузовиков. Орлы сосредоточены и пыхтят сзади. Радиостанции мы выключили. Шипение щекофона на приеме неприятно отвлекает. В развалинах заставы играют тенями отблески костра, разожженного под прикрытием остатков стен в углу. Между «КамАЗами» мы обнаруживаем «уазик» с пробитыми пулями дверьми и без запасного колеса на задней двери корпуса машины. А у меня половина солдат с правами. Интересный разворот событий получается. Или боженька за нас, или чертушка. Если дело выгорит, то мы станем самыми богатенькими буратинами в радиусе пятидесяти километров. Цистерна полная. Интересно, что там? Бензин? Соляра? Грузовик наполовину загружен металлическими и деревянными балками, вывороченными из развалин строений. От машин до развалин, где засел часовой, метров пятьдесят открытого пространства, покрытого строительным и прочим мусором. Я хочу двинуть туда ползком и взять на себя грех, тихо удавить стоящего на фишке своими руками с ножом, но меня тянет и требовательно теребит за ткань одежды Шакиров.
– Не надо ползать, тащ лейтенант! – шепчет он. – В грузовике стекла запотели. Второй часовой в кабине спит. Посмотрите на часы – пять тридцать. Они меняться сейчас будут. Он его заранее пойдет будить, иначе к шести тот его не сменит.
Вот так вот просто все. И не надо никуда ползать, пачкать, марать и рвать форму, сдирая колени и локти о грунт. Надо уметь смотреть, и видеть, и думать. Ну, и не только приказы отдавать, а самому чаще ходить «часовым у заставы». Мы прячемся за теми колесами, что максимально нас скрывают от часового, который идет к «КамАЗу». Я снимаю с себя все, что может звякнуть. Тихо и медленно вынимаю нож. Если вырву быстро, то скрежет клинка по зажиму можно будет хорошо расслышать. Штык-нож у меня не уставной, потому что лезвие заточено на наждаке. Зато он острый в отличие от тех, что лежат годами в оружейных комнатах. И кроме лезвия заточен и скос обуха.
Часовой пытается дернуться. Но клинок у горла – это хороший успокоитель. К тому же, руки нерадивого воина Аллаха тут же пеленает Шакиров концом веревки.
– Жить хочешь? Хочешь – кивни, – шиплю и приказываю в ухо и давлю сильнее холодным лезвием теплую кожу на его горле. Пока я его держу, Шакиров обыскивает и снимает с него оружие и ремни, расстегивает брюки, глупо хмыкнув при этом. Захваченный врасплох часовой дергается, когда Ренат в спешке задевает его достоинство.
– Тихо. Сделаешь то, что скажу, – отпущу! Позови второго! По-русски! Дернешься – яйца вырву! – Молодой парень кивает. Пахнет от него хуже, чем от наших лошадей после сна. Я не шучу насчет его хозяйства, которое зажимаю в руку у основания. Стою, чуть присев, у него за спиной. И толкаю к двери кабины. Если он попытается дернуться, то больно ему будет так, что смерть счастьем покажется. Шакир страхует пленного с автоматом с одной стороны, Косачук навел автомат на дверь с другой стороны от меня, Нефедов и Швец «держат» противоположную дверь. Двое пограничников контролируют подступы и связь.
– Ахмэд! Вставай! Смэна! – стучит в дверь освобожденными руками часовой. Ответ, как в анекдоте:
– Пошел ты на х… Фариз! Еще пятнадцать минут! – Мы не ждем. Дергаю дверь за ручку, замок открывается, резко и больно толкаю плененного часового в сторону, он с криком валится к ногам Шакирова, хватая себя за промежность. Передо мной грязные пятки второго часового. Они выписывают зигзаги в воздухе, и одна пролетает мимо моего лица потому, что Нефедов, с другой стороны кабины, крепко обнял локтем за шею невыспавшегося Ахмеда и тянет его на себя, удушая между двумя своими предплечьями. Я хватаю его за ноги, прижимаю их к широкому сиденью и бью рукояткой ножа в промежность. Туркмен вскрикивает коротко и обмякает. Через минуту оба доса сидят у колеса, связанные по рукам и ногам. На глазах повязки из промасленной ветоши, что лежала под сиденьями кабины.
– Тихо. Где пограничники? – На мой вопрос Ахмед орет и брызжет слюной. Мне не нужен перевод. Когда сатанеешь, то ярость снимает все ограничения с мозга. Нож втыкается в шею Ахмеда неожиданно легко и неумело для профессионального убийцы, каким я должен быть. Руку омывает теплый и липкий поток крови из раны. Ахмед страшно хрипит и таращит на меня глаза. А я его не вижу, пелена на глазах. Руку тяну на себя, и еще больше крови брызгает из пробитой шеи. Убитый валится на Фариза. Повязка срывается с одного глаза, и кровь Ахмеда щедро течет по его лицу и одежде. Перевожу глаза на падающее по Фаризу тело. И он мои зрачки, холодные и безразличные, видит. И ему становится страшно. Ведь найдем по-любому. А так шанс есть, обещал я ему. А эти русские глупы. Они свои обещания, данные врагу, выполняют, даже себе во вред.
– Скажу! Скажу! Не убивай! Они в зиндане! Там, возле костра люк! – Он перебирает ногами, толкается от земли и ползет на спине подальше от моей окровавленной руки и ножа. Тело Ахмеда дергается и трясется в смертных судорогах у моих ботинок. Пыль, поднятая нами, клубится вверх между грузовиками. Мне мало Ахмеда, меня дурманит легкая победа, запах свежей крови и страх Фариза. Хочу еще кого-нибудь убить, растерзать, порвать на куски.
– Веди, урод, а то… – Фаризу не надо объяснять, как я хочу утолить мою жажду найти виноватого в том большом, что произошло со мной и со всеми. Меня начинает трясти. Я никогда не убивал никого руками. Нож надо бы вытереть. Но мне не до него, и я, неопытный, сую его в ножны. Фариз неуклюже встает и бежит, спотыкается и чуть не падает, к углу обрушившегося здания. Пробегает мимо него в утренних сумерках и останавливается возле решетки, лежащей на земле. Решетка пристегнута замком и цепью к отогнутому уху из толстой арматуры, которая торчит из бетонного кольца, врытого в землю, и закрывает вход вниз.