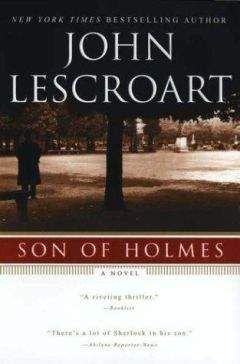правило, награда за труд и мастерство, что каждый имеет более-менее равные шансы составить свое мнение и принять решение, что добро и доблесть в конце концов вознаграждаются, что «общественное благо» подлежит обсуждению и верх, несомненно, одержат разумные доводы; нужно выйти из привольного пространства самоуспокоенности, где все горизонты – нравственные, и оказаться в каком-нибудь заброшенном закутке большого несуразного здания, в котором девять из десяти дверей заперты, где нет никаких перспектив и горизонтов, а есть только путь вниз (деградация), где почти все, что происходит, случайно и непредсказуемо, где просьбы бессильны, поскольку нет и не было ни адресов, куда можно эти просьбы направить, как нет и должностных лиц, обязанных их прочесть, и где положиться можно только на то, что вы говорите самому себе. Это значит оставить мир привилегированных и присоединиться к миру отверженных.
Через лохмотья малый грех заметен,
Под шубой – скрыто все. Позолоти порок —
И сломится оружье строгих судей;
Одень в тряпье – пигмей былинкой свалит. [133]
У. Шекспир. Король Лир. Акт IV, сц. 6
Слово «примитивист» по отношению к такому художнику, как Майкл Кванн, неверно сразу в двух отношениях. Кванн – тонко рефлексирующий и умелый художник. (Беседы, которые я вел с ним об искусстве, напоминали диалоги с Л. С. Лоури, который был примитивистом не больше, чем дзен-буддийский монах.) Более того, определенная путаница понятий заключена в самом ярлыке, и это нужно осознать, если мы хотим прийти к правильному пониманию места Кванна в искусстве.
Любой профессиональный живописец усваивает некий художественный язык, и этот язык – если оценить его с большой временной дистанции – всегда ограничен, поскольку развивался для выражения определенных видов опыта. Каждая художественная форма тесно связана со своим видом жизненного опыта. Изначальная разница между камерной музыкой и джазом состоит не только в качестве, тонкости или виртуозности исполнения: эти два типа музыки выражают два разных способа жизни, причем люди не выбирали эти способы, а рождались в них. Профессиональные навыки, которые приобретал ученик в мастерской Гейнсборо, идеальны для изображения перьев и атласа, но не годятся для написания «Пьеты».
Каждый стиль в искусстве поощряет один опыт и исключает другой. И если кто-то пытается ввести в картину жизненный опыт, который исключается данным стилем или традиционными стилями, такое произведение всегда осуждается профессионалами как грубое, неуклюжее, гротескное, наивное, примитивистское. (Так было, в частности, с Курбе, Ван Гогом, Кете Кольвиц, а еще раньше с Рембрандтом.)
Было бы неверно объяснять этот феномен недобросовестностью профессионалов, ибо в определенном смысле все приведенные эпитеты верны. Неканонический опыт не может существовать в тех же культурных рамках, что и канонический. У него своя культура – культура исключения. Сама его природа требует – по отношению к превалирующему вкусу – такого выражения, которое может показаться непоследовательным, искаженным или нелепым. Как может неканонический опыт сохранить память об исключенности и в то же время остаться изысканным?
Учитывая это, можно сказать, что работы Майкла Кванна весьма примечательны по богатству и детализированности опыта, который они выражают. Каждая фигура, даже второстепенная, является портретом; здесь нет общих мест. (Несомненно, Кванн – рассказчик, поскольку у него есть особый дар наблюдателя: когда он смотрит на лицо человека, он чувствует его судьбу.) Каждый жест на его картинах подтвержден жизненным опытом: взгляните на карабкающихся по стене в «Массовом побеге», или на мальчика, поднимающего ведра на картине «Время завтракать», или на пару, идущую нам навстречу в «Зонтиках». Я пишу «пару», поскольку, хотя это и дети, они «взрослые» дети.
Присущая его творчеству двойственность возраста (на картинах Кванна взрослые часто превращаются в детей) коренится, как мне кажется, в его собственной жизни и, возможно, связана с тремя идеями: уличные дети рано взрослеют; к заключенным относятся как к наказанным детям; среди тех, кого закон считает виновным, многие невинны, хотя их невиновность так и не будет сформулирована. В этой невиновности-невинности нет ничего жалостливого или поэтического: это просто обстоятельства дела, увиденные с другой стороны – с той, где вообще редко что-то формулируется, но где жажда любви – а если не любви, то хотя бы уважения – всегда очень сильна.
Наконец, я хотел бы указать на еще одно свойство творчества Кванна, идущее не от специфического окружения, а универсальное: это ощутимое присутствие того, что нельзя увидеть. Каждая из его картин словно сцена, которую кто-то пристально изучал через окно, – сцена снаружи, увиденная из помещения, где находится наблюдатель, или интерьер, наблюдаемый снаружи. Так, конечно, можно рассматривать и любую живопись. Однако у Кванна вы осознаете, что «окно» встроено в некую потайную стену. На всем, что мы видим, лежит пугающий отпечаток того, что скрыто за пределами рамы. Подножие холма, к которому катятся люди. Самое страшное (Кванн говорит: «Лучше бы я этого не писал») – это тюремные ворота, скамья подсудимых, тюрьма Скрабз. [134] А вот таинственное место, откуда явились животные. Небо, в котором парит воздушный змей. Имманентность за каждым кирпичом (или внутри его?). Сад снаружи, для которого сделаны стоящие в комнате трехколесные велосипеды… Это книга, составленная из образов заключения – и из мечтаний о свободе.
61. Мэгги Хэмблинг
(р. 1945)
Поэты, в отличие от других людей, хранят верность только в несчастье и бросают тех, у кого все хорошо.
Иво Андрич. «Беспокойство». 1917
Вот я здесь, в начале, где согласился быть, и не знаю, что делать. Рисунки, приводимые далее, будут рассказывают собственную историю и говорят сами за себя – прямо, не таясь, не скрывая своей наготы. Добавлять слова означало бы одеть их и тем самым отвлечь внимание от их естества. Скажу даже больше: добавлять слова – любые слова – значит рисковать превратить себя в цензора.
Любимого человека нельзя описать кому-то третьему. И не потому, что любовь слепа, а потому, что любящий открыл и показал нечто остающееся обычно скрытым. Любящие раздевают друг друга со страстью, и одно из главных обещаний физической страсти в том, что удастся обнажить также и душу: иногда это обещание исполняется, чаще нет. Но когда такое происходит, любовники открывают друг другу нечто скрытое от всего мира. Откровение может быть очень кратким, порой его тут же камуфлируют или берут назад, но важен сам факт, а откровения по своей природе непередаваемы никакими обычными языками мира. Отсюда одиночество любви.
Быть любимым – значит сорвать маску. Это выражение – «сорвать маску» – в обиходном употреблении