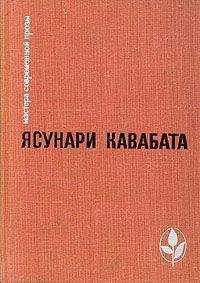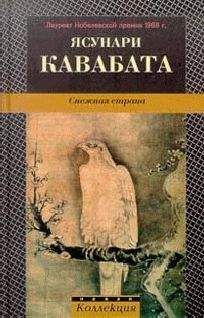– Мне кажется, тебе чего-то не хватает, поскольку в этой жизни уже не осталось места для ревности. Но зато когда я умру, здесь появятся те, к кому ты будешь меня ревновать. Непременно придут… – С этими словами она испустила дух.
Вышло так, как она обещала.
На церемонию ночного бдения у гроба пришел театральный актер и наложил на лицо покойной грим. Он воскресил ее былую красоту – она стала такой же, как в те времена, когда они любили друг друга.
Потом к гробу подошел художник и наложил на лицо покойной гипс. Искусный грим так оживил ее, что казалось, этот человек решил задушить женщину из ревности к актеру. Художник наложил маску потому, что хотел сохранить ее лицо в своей памяти.
Когда стало ясно, что соперничество любовников отнюдь не прекратилось с ее смертью, что смерть любимой у него на руках вовсе не победа, а иллюзия победы, – он отправился к художнику с твердым намерением завладеть посмертной маской.
Однако маска оказалась странной: он видел в ней и женщину, и мужчину, и девочку, и старуху. Огонь ревности в его груди внезапно угас.
– Это и она, и не она. Я даже не понимаю – мужчина это или женщина, – сказал он упавшим голосом.
– Да, верно, – художник хмуро кивнул. – Все посмертные маски одинаковы. Если посмотреть на маску, не зная, с кого она снята, невозможно определить – мужчина это или женщина. Вот, например, лицо Бетховена – внушительное, властное лицо. Но если всмотреться в его посмертную маску, то увидишь, как в ней проступают и женские черты. Она была самой женственной из всех женщин, и я надеялся, что маска сохранит ее естество. Но нет, смерть непобедима, для нее нет разницы между мужчиной и женщиной.
– Для нее радость жизни была в том, что она – женщина, и в этом заключена ее трагедия. Она оставалась женщиной до самой смерти. И если теперь ей удалось освободиться…
Он почувствовал облегчение – будто пробудился после ночного кошмара. Он протянул художнику руку и добавил:
– …то и мы можем обменяться рукопожатием перед этой странной – то ли мужской, то ли женской маской. Перед этой маской смерти.
Лица
С семи до пятнадцати лет плакать на сцене было ее театральным амплуа. Зрители тоже частенько плакали. И ее первое открытие относительно того, как устроена жизнь, заключалось в следующем: заплачу я – другие тоже заплачут. И зрителей она рассматривала только в этом аспекте – они должны заплакать в ту минуту, когда я разрыдаюсь на сцене. И потому все люди казались ей на одно лицо. В общем, лик мира не представлял для нее никакой загадки. Во всей труппе не было такой актрисы, которая столь успешно доводила бы до слез аудиторию.
Когда ей исполнилось шестнадцать лет, она родила. Отец ребенка сказал ей:
– Девочка на меня не похожа. Этот ребенок – не мой. Знать ничего не знаю.
– Он и на меня ничуть не похож. И все-таки я – его мать.
Лицо дочери стало для актрисы первым, о котором она не могла сказать, что понимает его. С рождением ребенка пришел конец и ее травестийной карьере. Теперь ей стало ясно, что между реальной жизнью и театральным миром, в котором она заставляла зрителей рыдать, лежит пропасть. Она взглянула вниз – кромешная темень. Потом она увидела множество лиц – таких же непонятных, как и лицо ее собственной дочери.
На каком-то перепутье театральных дорог она рассталась с отцом своего ребенка. С годами отцовские черты стали проявляться на лице дочери. Потом дочь научилась доводить зрителей до слез – точно так же, как умела это делать ее мать, когда была в ее возрасте. На каком-то перепутье театральных дорог она рассталась и с дочерью.
После того, как они расстались, матери стало казаться, что ее дочь похожа на нее.
Через десять лет актриса повстречалась со своим отцом, бродячим артистом. Он сказал ей, как найти мать. Увидев мать, она обняла ее и тут же разрыдалась. Она впервые видела мать, впервые плакала по-настоящему. Потому что лицо брошенной дочери было точной копией бабушки. Сама же она не имела ничего общего со своей матерью – точно так же, как и ее собственная дочь ничуть не походила на нее. Но бабушка с внучкой были на одно лицо.
Рыдая на материнской груди, она поняла, что ее детские слезы на сцене были настоящими. Она снова стала бродячей актрисой. Она должна была найти свою дочь и ее отца, чтобы рассказать им про загадку лиц.
Зеркальце
Из окна моей уборной виден туалет похоронной конторы Янака. Их разделял только узкий проход между домами, который использовался конторой под помойку. Там валялись засохшие цветы и пожухлые венки.
Середина сентября, крики цикад с кладбища стали заметно громче. Обняв за плечи жену с ее сестрой, я с заговорщическим видом провел их к своей уборной. Ночь. В коридоре было прохладно. Уборная располагалась в самом его конце. Когда я открыл дверь, в нос ударил резкий запах хризантем. Мои женщины в удивлении высунули головы в окно над умывальником. И увидели эти хризантемы. Там стояло два десятка венков. Они остались после сегодняшних похорон. Жена протянула к ним руки, будто бы собираясь забрать их с собой. И сказала, что давным-давно не видела столько хризантем сразу. Я включил свет. Серебристая упаковка венков засияла. Когда я работал ночами, то частенько путешествовал в уборную и каждый раз, вдыхая аромат цветов, чувствовал, как проходит усталость.
Когда наступило утро, хризантемы стали еще белее, засверкали серебристые обертки. Занимаясь своими делами, я обратил внимание, что среди цветов угнездилась канарейка. Наверное, ее купили, чтобы отпустить на вчерашних похоронах на волю, а она с усталости забыла дорогу в свой зоомагазин.
Смотреть на цветы из окна уборной было, безусловно, приятно. Но мне приходилось наблюдать, как они вянут. И вот сейчас, в начале марта, когда я пишу эти строки, уже несколько дней я вижу, как на одном из венков блекнут розы и колокольчики.
Ладно, с одними цветами я бы как-нибудь смирился. Но мне приходилось смотреть и на людей. Чаще всего это были молоденькие девушки. Мужчины захаживали в туалет реже. А у бабушек редко возникало желание подолгу вертеться перед зеркалом в туалете похоронной конторы. Они уже и на женщин-то больше похожи не были. Но почти все девушки останавливались перед зеркалом, чтобы привести себя в порядок. Меня это пугало. У них делались такие отчаянно красные губы – будто бы они только что из покойника всю кровь выпили. Даром что в траурных платьях. И при этом такие спокойные. Они думают, что их никто не видит. Но вид у них все равно такой, будто они что-то нехорошее делают.
Мне совсем не хочется наблюдать эти отвратительные сцены. Но что поделать – из окна моей уборной виден туалет похоронной конторы. И потому эти неприятные встречи случаются довольно часто. Я всегда поспешно отвожу глаза. Было бы неплохо разослать приятным мне женщинам письма, предупреждающие их о том, что никогда не следует заходить в туалет в похоронной конторе. Чтобы не превратиться в таких же кровопийц.
Но вот вчера я наблюдал за девушкой лет восемнадцати. Она вытирала слезы белым платочком. Она все утиралась и утиралась, а они все текли и текли. Ее плечи сотрясались от плача. Потом горе заставило ее прислониться к стене, и она зарыдала, уже не заботясь о том, чтобы вытереть слезы.
Я подумал: вот она, та единственная женщина, которая скрылась в туалете вовсе не для того, чтобы накрасить губы. Она спряталась, чтобы выплакаться. Я вдруг ощутил, что своим платочком она стерла из моего сердца недоброжелательство по отношению к женщинам – чувство, вскормленное наблюдениями из окна уборной. Но тут девушка вытащила из сумочки зеркальце, улыбнулась в него и тут же вышла. На меня будто ушат воды вылили – я чуть не закричал.
И чего это она улыбалась?