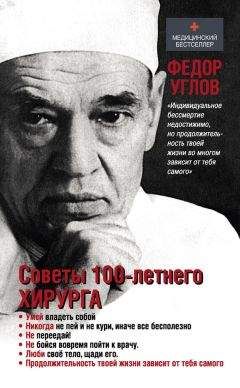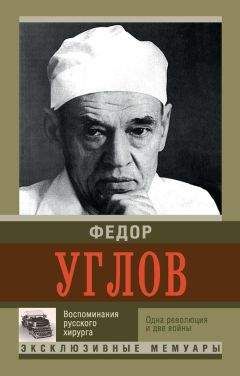Качуг встретил дождями, грязь здесь была такая густая, что того и гляди сапоги в ней потеряешь. До Иркутска от Качуга ходили обозы – иного транспорта не знали. Но мы, на наше счастье, застали тут грузовые автомобили – наверно, одни из самых первых в Сибири той поры. Сейчас новым космическим кораблям, пожалуй, не удивляются так, как дивились в сибирских деревнях этим грузовикам! Раскрытые рты, испуг, удивление на лицах людей. Коровы, заслышав рев моторов, очумело неслись от дворов куда попало, лошади рвались из оглобель, опрокидывали телеги. Все это я видел, сидя в кузове машины, радостный, несмотря на сумасшедшую тряску и то, что был весь заляпан дорожной грязью: то и дело приходилось соскакивать, подталкивать грузовик, подкладывать под его буксующие колеса жерди и доски.
На двадцать второй день пути я прибыл в Иркутск. Город поразил меня многоэтажными зданиями, широкими мощеными улицами, огромным количеством спешащих куда-то людей и множеством извозчичьих пролеток. «Ну, брат, – сказал я себе, – не пропасть бы!..»
На удивление мне председателем приемной комиссии оказался Иван Васильевич Соснин, бывший киренский партийный секретарь. Вряд ли он знал меня, но фамилия Угловых ему, конечно, была известна, и в том, что я сравнительно легко стал студентом, сыграло свою роль мое социальное происхождение. Вместе со мной на факультет пришли парни и девушки с заводов, фабрик, из деревень. Много было демобилизованных красноармейцев. Их потертые шинели, фуражки со звездочками, островерхие буденновки словно бы еще отдавали горьковатым пороховым дымом, напоминали о вчерашних смертельных боях на фронтах Гражданской войны.
Но вместе с ними в университет попадали и дети торговцев, мелких промышленников, а то и крупных богачей. Быстро ориентируясь в обстановке, они поступали куда-нибудь рабочими и через год-два шли в университет под именем «рабочие», хотя вся сущность их оставалась мелкобуржуазной. Подделываясь под рабочих, они сыпали грубостями, ругательскими словами, приводя в смущение не только девушек, но и мальчишек из подлинно рабочей среды. Они были все «сверхреволюционными». Вежливость, природную русскую застенчивость они высмеивали как пережиток старого, а хамство и ругань выдавали за «пролетарский дух». Мы их долго не могли раскусить.
А профессорско-преподавательский состав был, естественно, прежним. Большинство действительно хотело помочь нам приобрести знания, но все же мы, пролетарская молодежь, долго ощущали отчужденность многих из них, граничащую чуть ли не с брезгливостью. Привыкшие к прежней студенческой аудитории, близкой им по своему классовому сознанию, они иронично, а порой с нескрываемым презрением смотрели на нас, одетых в домотканые рубахи, гимнастерки и тяжелые сапоги, и конечно же, особенно на первых порах, речь наша была груба для их слуха, а манеры – неуклюжи и резки…
Вот почему, учитывая сложность университетской обстановки той поры, партия посылала сюда опытных коммунистов, таких, как Соснин. Отстаивая и проводя в жизнь партийную линию, они в своей работе опирались на авторитет и поддержку лучших представителей профессуры, которые без предубеждений отнеслись к новой власти, сочувствовали ее начинаниям и преобразованиям. На медицинском факультете, заинтересованно, уважительно относясь к нам, читали лекции и вели занятия крупные ученые того времени: анатом Бушмакин, знаменитый специалист в области эмбриологии и сравнительной анатомии Шевяков, блестящие хирурги Сапожков и Щипачев. У каждого из них был свой характер, свои особенности и даже свои профессорские причуды, но всех их роднила преданность науке, желание учить молодежь, стремление подготовить для России как можно больше высококвалифицированных врачей.
Казалось бы, скучная дисциплина – анатомия, а на лекции профессора Бушмакина, которые он читал для нас, приходили студенты выпускных курсов и даже врачи. Тесно становилось в аудитории, яблоку негде было упасть, локтями не двинешь, так сжимали со всех сторон. Особая привлекательность этих лекций была в том, что профессор приносил с собой остроумно изготовленные им самим наглядные пособия. Так, объясняя тему «Проводящие пути мозга», он пропускал тонкие бечевочки через нарисованные крупным планом срезы головного и спинного мозга на различных уровнях, указывая центры, через которые они проходят. Тут уж можно было уяснить и осмысленно запомнить, а не механически зазубрить, что такое, например, «трактус-кортико-понтикоце-ребелло-дентата-рубро-спиналис».
Он очень умело вел групповые занятия в анатомическом зале. Каждый студент должен был тщательно отпрепарировать какую-то одну часть тела, но обязан был хорошо знать и другие, которыми в этот момент были заняты товарищи по группе. Все вместе, помогая друг другу, мы вечерами подолгу задерживались в анатомичке, и когда учеба на трупах подходила к концу, экзамен был сдан, профессор Бушмакин обязательно фотографировался с каждой группой отдельно. Эти фотографии мы, его бывшие студенты, храним как реликвию.
Запомнился профессор Щипачев, его высокая требовательность к проведению асептики при операциях. Больного тщательно мыли, закутывали в стерильные простыни и в таком виде ввозили в операционную. Здесь начинался целый ритуал, разработанный в подробностях: скрупулезно подготавливалось операционное поле, целая система щеток и разные антисептики пускались в ход при мытье рук… Сам хирург был молчалив – ни единого лишнего слова! И если вдруг он начинал тихонько напевать, мы понимали: профессору трудно…
Профессор Топорков часто любил повторять: «Что на мне нет белого жилета, я могу сказать. Но что у меня нет наследственного сифилиса – этого сказать не могу». В своих увлекательных лекциях он доказывал, что врожденный или приобретенный сифилис лежит в основе многих нервных заболеваний. Его лекции были хороши тем, что в них выявлялись слабые и сильные стороны противоположных методов и направлений, – они будили мысль, звали к самостоятельному поиску правильного решения.
В клинике нам пока ничего не давали делать самим: смотрите, вникайте! А нам представлялось: возьмем нужный инструмент и пойдет дело… И когда выпадала такая возможность, откуда только брался страх, в мгновение забывались все наставления, руки не слушались, не хотели делать того, что приказывала им голова. Нужно было учиться, учиться, и каждый день, проведенный под руководством ассистентов в клинике, был желанным.
Мучила латынь. Почти никто из нас, поступивших на медицинский факультет с рабфаков или приехавших из глухой провинции, латинский язык до этого не изучал. Сколько упреков было услышано нами, когда начались занятия по фармакологии и рецептуре!
Но уже первые месяцы, проведенные в университете, сделали нас во многом другими: более собранными, уверенными. Мы поняли, что, учась на врача, нельзя разбазаривать дорогое время – только занятия, только книги… Не нужно, разумеется, думать, что не было у меня радостей, развлечений – все было! Однако в то горячее время, когда восстающему из разрухи молодому Советскому государству, как никогда, требовались свои надежные специалисты, мы сознавали: именно на нас очень надеются, нам строить социализм. Мы были чертовски боевыми, настырными ребятами: учиться – до темноты в глазах, спорить на диспутах – пока глотку не сорвешь, песни петь – пока все они не будут перепеты! Хотя и голодно жили, но без уныния – с комсомольским задором, как нынче пишут в газетах.
Стипендия была маленькая: на первом курсе – шесть рублей в месяц, на втором – восемь, а одни талоны на скудное месячное питание в студенческой столовой стоили четыре с полтиной. Повозишь ложкой в тарелке и вздохнешь тут же: то ли ел, то ли это показалось…
В Иркутске жила Ася, моя сестра, была она замужем за бывшим киренским фельдшером Алешей Шелаковским. Теперь Алеша тоже учился на медицинском факультете. Вместе кое-как перебивались.
Брат Иван, учительствовавший в деревне на Лене, раза два за зиму присылал немного денег. Голова от недоедания частенько кружилась, но все ж терпимо было.
Снимал я небольшую проходную комнатку у тихих, не мешающих моим занятиям людей, а соседом по квартире был работник милиции Гаврилов – человек начитанный, преданный своей опасной (особенно по тем временам) профессии. Бывал он в частых перестрелках с контрабандистами, проникавшими на советскую территорию через китайскую границу, бесстрашно ходил на обследование многочисленных в Иркутске той поры воровских и прочих притонов. Вспоминаю его потому, что однажды он предложил мне пойти вместе с ним к наркоманам.
– Тебе, Федор, как будущему медику, полезно на них посмотреть…
В ночной час мы свернули с широкой центральной улицы на узкую боковую, по ступенькам спустились к закрытой двери полуподвального помещения. На вопрос, кто стучит, заданный по-китайски, Гаврилов тоже по-китайски отозвался: Четырехглазый. Нас тут же впустили. Оказывается, за круглые очки обитатели притонов окрестили милиционера Гаврилова «четырехглазым».