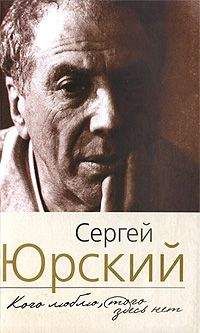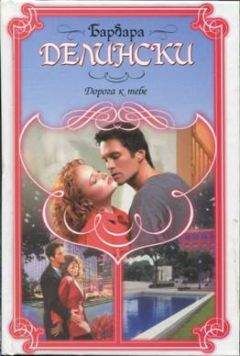Ее сделало актрисой неукротимое честолюбие. Да, да честолюбие, душевное качество, к которому мы порой склонны относиться настороженно. Но если понимать его как любовь к чести (необязательно – к почестям!), как жажду первенства, то без этой черты нет художника, нет актера. Дух соревнования витает над сценой и экраном. Поединок талантов все равно что поединок влюбленных такова уж диалектика творчества. Художник не состоится, если в нем не бушует пламя честолюбия, сосредоточенного все на одном, все на одном, все на одном... Это пламя сообщает энергию бесконечному терпению и пробам, дает силы карабкаться в гору по непролазным тропинкам и все начинать сначала столько раз, сколько потребуется. Все сначала. Сколько потребуется.
Олег Даль и Владимир Высоцкий в чеховской "Дуэли" [3]
Из всех особенностей чеховского зрения режиссера Иосифа
Хейфица более всего поражает реакция на пошлость. Пошлость Антон
Павлович и в самом деле ощущал, кажется, всеми пятью чувствами, но сверх того и раньше всего душевным зрением неслыханной, возможно, непревзойденной остроты. Это душевное зрение кинематограф обязан перевести в изображение. Хейфиц ставит себя в положение Чехова, оглядывающего своих героев – их лица, костюмы слушающего их речь, осматривающего обстановку, которая их окружает, – мебель, посуду, пейзаж...
Но что такое пошлость? И как ее передать на экране? "Пошлость – отвлеченное существительное". Так, ничего не определял, определяет его "Толковый словарь" Ушакова. Следовательно, нужно передать отвлеченное понятие, которое в форме прилагательного само определяет другие понятия. От "пошлая обстановка" до "пошлая жизнь". Припоминаю: в фильме Хейфица "Дама с собачкой" Гуров, приезжал в провинциальный городишко, чтобы встретиться с Анной Сергеевной, останавливался в убогой гостинице. Он садился за стол, чтобы написать записку той, без которой не мог больше жить, и вдруг замечал идиотскую бронзовую статуэтку на чернильнице, какого-то всадника без головы. Соединение в одном кадре порыва идеальной любви низким пошибом обстоятельств высекало ощущение невыносимого контраста. Это и была сама пошлость, сквозь которую героям надо было пробиться.
И вот новая чеховская лента Хейфица "Плохой хороший человек".
...В грязноватом "павильоне" на пляже заштатного кавказского городка, куда забросила судьба героев "дуэли", происходит первый разговор. Лаевский, молодой человек с университетским образованием, сбежавший в этот городишко по любви с чужой женой и прозябающий тут, исповедуется доктору Самойленко. Последний выполняет роль местного доброго гения и некоего нравственного центра. Лаевский давно уже эту чужую жену, а по совести, его собственную жену Надежду Федоровну не любит или думаю, что не любит, но он порядочный человек или думает, что он порядочный человек. Так вот – что делать? Лаевский субтилен, тонок. Лицомми мил, интеллигентен, вял. Всегда немножко заспан – по ночам в карты играет и живет тем, что в каждую секунду чувствует, что живет скверно. И в эту же самую секунду сознает, что мучается этим несоответствием. И тут же любуется этим своим мучением. Рефлексирующий тип, говорили о таких уже во времена Чехова. А впрочем, он добрый малый, лицо страдательное, а от этого и еще от своего университетского образования представляющийся обществу, что-то слышавшему о "лишних людях", одним из этих лишних людей и натурой романтической... Так вот он исповедуется, а на соседний столик вспархивает цыпленок. Лаевский морщится и, бросая Самойленко вопрос: можно ли и нравственно ли жить с женщиной "без любви"? – встает и напряженно (так городской человек всегда берет в руки животное) и в то же время безразлично берет под крылышки цыпленка и сбрасывает его со стола. Сам он в этот момент представляется цыпленком, несмышленышем, воробышком во всем: и в мыслях и в поступках. Да и весь разговор опошляется. В роли Лаевского – Олег Даль, который умеет изобразить такой тип характера. Некий эфир безволия разлит по всему облику героя, отражен в каждом его жесте. "Русскому человеку, – сказал однажды Чехов с горестным отчаянном, – свойственны высокие и благородные мечты и порывы, почему же в жизни он хватает так невысоко!"
Об этом и повесть. Об этом и Лаевский.
В конце его ждет дуэль, нелепая, как все остальное. Он знает, что перед дуэлью положено надевать чистую рубаху и писать матери. Рубаха оказывается без пуговиц, только у воротника одна сохранилась. Надев ее и застегнув под горлом, Лаевский становится похож на того самого цыпленка, которого он сбросил со стола. Так вот и жизнь беспомощного ангелочка сейчас оборвется, сбросит его… У Чехова этого нет, но это одна из отличных находок режиссера – тут высекается ощущение невсамделишного бытия, ощущение пошлости,
А вот сцена самой дуэли. На горе расположились участники.
В заштатном гарнизоне никто толк не знает, как проводится дуэль. Недаром же фон Корен призывает вспомнить литературные источники – Лермонтова, например, а еще Базарова из "Отцов и детей". Забыли про дуэли, да и на дворе девяностые годы. Чехов дает пародию на классические картины русских поединков в жизни и в литературе, он не раз пародировал дуэльные мотивы, понимая, что даже призрачное благородство поединка окончательно выродилось. Вспомните "Дядю Ваню" – бегающего с пистолетом Войницкого и приговаривающего между выстрелами: "бах-бах"! Но дуэль кончилась, и, слава богу, никто не убит (и не мог быть убит по художественному закону, принятому здесь Чеховым). Не удалась жизнь – не может удаться и смерть! Пригорок пуст. На месте людей, на тех же самых позициях – коровы... Все бессмысленно, но это и без коров ясно.
Повторим: символами пошлости переполнен весь фильм, и мы начали рассказ с этих именно сцен и кадров, потому что для поставщика они принципиальны, составляют каркас киноповествования. Помимо дуэли в главном смысле – о чем мы, собственно, сейчас и скажем, – в течение всего фильма происходит дуэль изобразительных символов. Тонкие, многозначные, апеллирующие к воображению зрителя бьются с назидательными, прямолинейными. Эта борьба кадров и сцен видима, мы бы сказали, слишком видима временами.
Дуэль двух типов интеллигенции, двух взглядов на жизнь. А в более широком смысле противопоставление Чеховым оскудевшей, ежедневной тягомотины, перетирания времени, которое он, как никто, чувствовал и, как никто, умел изобразить, столь же твердо жившему в нем, но не сформулированному им идеалу здоровой, трудовой, нравственной, общественно полезной, непоказной жизни. "Дуэль" относится к девяностым годам, когда Чехов дал гениальные вещи – "Даму с собачкой", "Скучную историю", "Мою жизнь"...
Два типа интеллигенции. Один – Лаевский со своей Надеждой Федоровной (о ней ниже), другой фон Корен. Его играет Владимир Высоцкий. Пока первый исповедуется, Самойленко, другой делает на берегу гимнастику. Опять же не без символа противопоставление героев. Зоолог фон Кореи суховат, подтянут, делает дело. Не любит разглагольствований, любит формулировать и подгонять жизнь под свои формулы. Высоцкий дает законченный рисунок, демонстрируя и высокий класс профессионализма и понимание общей идеи образа.
Но какова же сама идея?
Если Лаевского автор фильма оставляет Чехову, то фон Корена он подтягивает к понятиям нашего времени. На наш взгляд, слишком видимо подтягивает.
Для Чехова фон Корен – представитель распространенного типа. Прагматики, деловые люди в духе идеалов Писарева, поклонники философии Спенсера. Катушка Румкорфа для них дороже страданий Печорина. Научить мужика ремеслу важнее, нежели поделиться с ним пониманием общественных проблем. Естественнонаучное начало жизни их божество, Труд единственный смысл. Все лирическое – любовные страдания, нравственные вопросы, поэзия "чудных мгновений", – все это вредно, вредно, вредно. Чехов не без сочувствия относился к деловой программе, сам любил работать, но посмеивался над ограниченностью прагматиков. Он был поэтом. Он написал заключительный монолог Сони в том же "Дяде Ване", положенный на музыку Рахманиновым, А в этом монологе наряду с "небом в алмазах" есть и "будем работать!"
В фильме фон Корен вырастает в фигуру зловещую. Он скорее от Ницше, нежели от Писарева. Близок к человеконенавистничеству. Посмотрите, как бы приглашает автор фильма, из таких-то прямехонько и выделываются фашисты! С этим хочется не согласиться. Не прямехонько! Русский прагматик, "человек со стороны" конца девятнадцатого века (да и нашего тож!), как правило, оказывался жертвой своих же философских эмпирей и окружающей неподготовленности. Обкрадывал свою душу больше, нежели верил другим. Финал, когда происходит крушение философии фон Корена и примирение сторон, для Чехова столь же важен, сколь и серьезен.