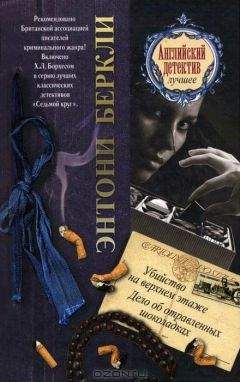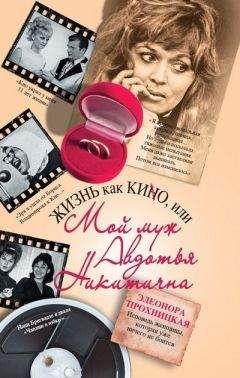– Мне не надо, – угрюмо отвечала Анна, обиженная тем, что Аксинья Ивановна не вспомнила об ней. – Я захочу, так сама возьму.
– Откуда же ты возьмешь? – удивился Алеша.
– Откуда? Известно, из кладовой. Пойду, целый ящик принесу да и съем.
– Но ведь это же не твоя пастила, как же ты можешь ее взять? – продолжал спрашивать Алеша.
– Эка беда! Я всегда все беру! Аксинья Ивановна ничего не говорит…
– Тетенька очень добрая, а все-таки это нехорошо брать без спроса. Я даже у папеньки ничего не смел брать. А здесь мы ведь не свои дети, как же нам можно так?
– Ну, тебе нельзя, так ты и не бери, а мне можно.
Анна убежала и, в доказательство справедливости своих слов, вернулась через две минуты с огромным куском пастилы.
Андрей Кузьмич слышал весь разговор детей и был вполне на стороне мальчика. Своеволие Анны возмущало его.
– Ты как смеешь по кладовым ходить? – закричал он на нее. – Сейчас снеси назад пастилу и в другой раз ничего не смей брать, пока тебе не дадут!
Анна покраснела, бросила пастилу на стол и убежала из комнаты, сильно хлопнув дверью.
– Какая сердитая! – заметил Алеша.
– Избаловалась девочка! Надо бы ее в руки взять, – проворчал Андрей Кузьмич.
Анна находила, что в постигшей ее неприятности виноват Алеша, и несколько дней дулась на мальчика, сердито отвечала на все его вопросы, на все старания завести с ней дружелюбный разговор.
Девочка не понимала, как и почему это случилось, но с приездом Алеши ей стало жить гораздо хуже прежнего. Алеша ничем ее не обижал, напротив – был к ней так же услужлив, как ко всем, но он очень часто давал ей советы, останавливал ее, когда она при нем делала или говорила что-нибудь не так, необыкновенно как-то часто находил носовые платки, оброненные Анной, её неприбранное рукоделье, полотенце, употребленное ею второпях вместо тряпки; он всегда замечал всякое пятно, сделанное ею на скатерти или на столе, всякую дырочку на её платке, и во всеуслышание объявлял об этом беспорядке. В разговорах с ней он беспрестанно называл дядю и тетку её благодетелями, внушал ей, как она должна быть благодарна им за то, что они призрели ее, бедную сироту, твердил, что ей надо всеми силами стараться заплатить им за их добро. Все это говорилось, как нарочно так, чтобы Андрей Кузьмич и Аксинья Ивановна могли слышать. Они умилялись прекрасными чувствами племянника и негодовали на бесчувственную девочку, которая не разделяла этих чувств. В глубине души Анна сознавала, что слова Алеши справедливы, но все-таки ей было неприятно, когда с ней об этом говорили, и кто же говорил? Мальчик, который был моложе и меньше её ростом, такой слабенький, что она без труда могла бы повалить его. Иногда она с досады нарочно начинала спорить, уверять, что все это неправда, что она и без Постниковых отлично прожила бы; но чаще она просто топала ногами, хлопала дверями и убегала прочь со слезами бессильной злобы на глазах. Пока не было в доме Алеши, все смотрели снисходительно на её недостатки, даже почти не замечали их, – известное дело, ребенок еще, что с неё возьмешь, – но с появлением Алеши невольно приходилось сравнивать ее с этим другим ребенком, и сравнение всегда было не в пользу Анны. Воспитанный строгой матерью, с ранних лет приученный к почтительности и аккуратности, тринадцатилетний Алеша казался каким-то маленьким старичком.
Но именно это-то и нравилось Постниковым. Он тщательно берег все свои вещи; если дядя или тетка дарили ему какую-нибудь мелкую монетку, он никогда не тратил ее на гостинцы, на «глупости», а всегда покупал на нее какую-нибудь полезную вещь, – карандаш, почтовую марку, чтобы послать письмо матери, пуговки себе к рубашкам, бумажный носовой платок, а если ему ничего не нужно было покупать, он аккуратно завертывал монетку в бумажку и припрятывал ее в глубине своего сундучка. К чужому добру он был точно так же бережлив. В лавке он очень скоро узнал цену всех вещей: сколько следует запрашивать с покупателей, за сколько уступать им, и ни за что на свете не решился бы сбавить ни одной копейки с назначенной цены. Дома он всегда смотрел, чтобы Федот не дал лошади лишней горсти овса, искренно жалел, если, по небрежности Алены, портился горшок молока, так часто удивлялся, отчего это кладовые не всегда под замком, что пристыдил Аксинью Ивановну, и она стала внимательнее относиться к своим ключам.
По праздникам Алеша никогда не порывался идти играть в городки с соседними детьми: у него было довольно дела дома. Он ходил в церковь с Андреем Кузьмичом, потом читал тетке газету, или писал матери письмо, или сводил счеты для дяди, или, наконец, усердно занимался починкой своего платья и даже сапог.
– Славный парень наш Лешка! – замечал жене Андрей Кузьмич. – Смотри, какой домовитый хозяин из него выйдет. Велик ли еще человек, а знает цену всякой копейке и без дела не привык сидеть. Нечего сказать, Груня сумела научить. Вот что значит ребенок при хорошей матери рос!
При этом он полусострадательно, полупрезрительно поглядывал на Анну. Да, Анна не могла похвастать ни одним из тех качеств, которые так нравились Андрею Кузьмичу в племяннике; к аккуратности и бережливости ей негде было привыкнуть; в приюте у неё, кроме толстой, и грубой одежды, не было собственных вещей, денег она там совсем не видала; она очень смутно представляла себе, как и откуда люди добывают все необходимое, а Постниковы сразу показались ей удивительными богачами, у которых всего было так много, что смешно было жалеть их добро, беречь платья, подаренные ими, не лакомиться вкусными вещами, лежавшими в их кладовых. К трудолюбию ее, как мы видели, приучали очень старательно, но она не понимала, чтобы можно было работать иначе, как по принуждению, и, избавясь от этого принуждения, очень охотно бездельничала целыми днями.
Алеша от природы был тихий, скрытный; внушения матери еще более развили в нем сдержанность. Анна, напротив, никогда не скрывала своих чувств, даже когда за это в приюте ей грозили тяжелые наказания. Она скакала от радости и хлопала в ладоши, как маленький ребенок, в припадках нежности душила поцелуями Аксинью Ивановну, но если ее что-нибудь раздражало, она, не стесняясь, выказывала свой гнев. Пока не было Алеши, ей очень редко приходилось сердиться, и Аксинья Ивановна, больше всего на свете дорожившая домашним миром и тишиной, всегда успевала устроить так, что Андрей Кузьмич не замечал этих вспышек. Но теперь ссоры между детьми повторялись так часто, что скрыть их не было возможности.
– Уйми ты девчонку! – несколько раз говорил жене Андрей Кузьмич, слыша, как, в ответ на степенное и разумное замечание Алеши, Анна кричит на него, бранит его. – Уйми, хуже будет, как я сам примусь учить ее.
Аксинья Ивановна несколько раз пыталась усовещивать девочку, но бралась за дело так неловко, что только подливала масла в огонь.
– Как ты можешь так кричать на Алешеньку? – говорила она. – Ведь ты знаешь, что он племянник Андрея Кузьмича! – Ты должна любить его, услуживать ему.
– Племянник, так и любить? – дерзко отвечала Анна. – Этакого противного мальчишку «любить»?.. Я его просто ненавижу!
– Да ты хоть при Андрее Кузьмиче не показывай этого, – продолжала Аксинья Ивановна. – Он на тебя сердится, говорит: примусь сам ее учить.
– А что он мне сделает? – спрашивала девочка, нисколько не испуганная этой угрозой.
– Что?! Оттаскает тебя за волосы да поколотит раз-другой, так будешь знать что! – отвечала Аксинья Ивановна, раздосадованная её упорством.
Мы уже видели, что угрозы и наказания никогда не производили хорошего действия на Анну. Пока Андрей Кузьмич был снисходительным хозяином, добродушно посмеивавшимся над её недостатками и без задержки выдававшим деньги на её нужды, она готова была и слушаться, и угождать ему. Но когда он стал посматривать на нее сердито, когда она узнала, что он собирается бить ее, она сразу стала смотреть на него, как на своего врага.
Бывало, чуть завидит она в окно, что он возвращается из лавки, тотчас кричит об этом Аксинье Ивановне и бежит помогать Алене собирать чайную посуду, подавать самовар. Теперь, когда он, входя в комнату, находил стол ненакрытым и обращался к ней с вопросом: «Что же чай?» – она, не двигаясь с места, отвечала:
– А я почем знаю? Спросите Алену!
Прежде она готова была плакать, когда он рассказывал о каком-нибудь убытке, понесенном им в торговле, и шумно радовалась, если он сообщал о своих удачах, теперь же она совершенно равнодушно слушала его рассказы. Андрей Кузьмич заметил перемену в её обращении, но причины этой перемены не доискивался, а все приписывал баловству Аксиньи Ивановны. Чтобы сколько-нибудь уничтожить дурные последствия этого баловства, он старался держаться как можно строже с девочкой. Прежде он был доволен, когда она принимала участие в разговоре, и охотно объяснял ей то, что она не понимала, теперь, напротив, он останавливал ее на полуслове и сурово замечал: