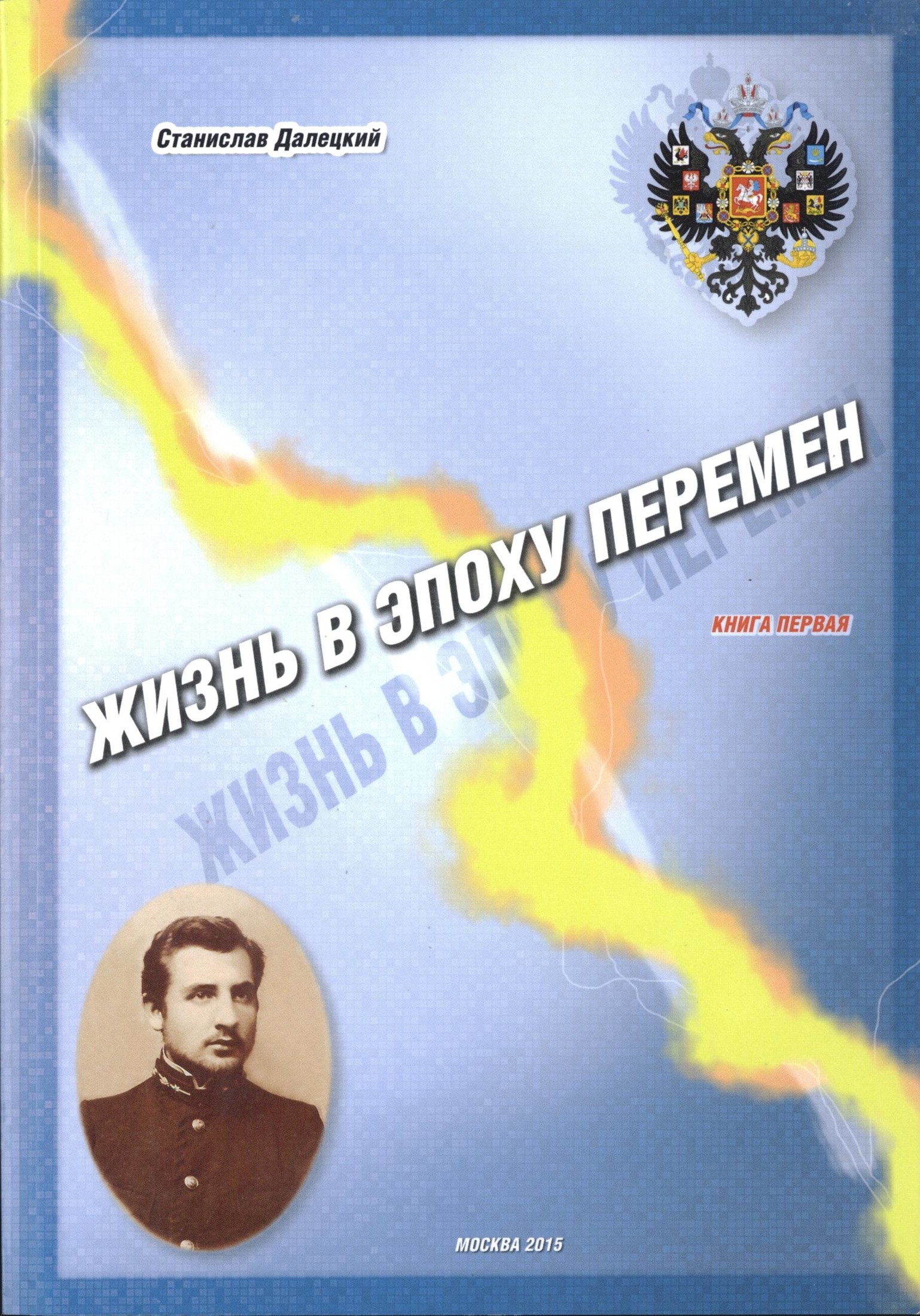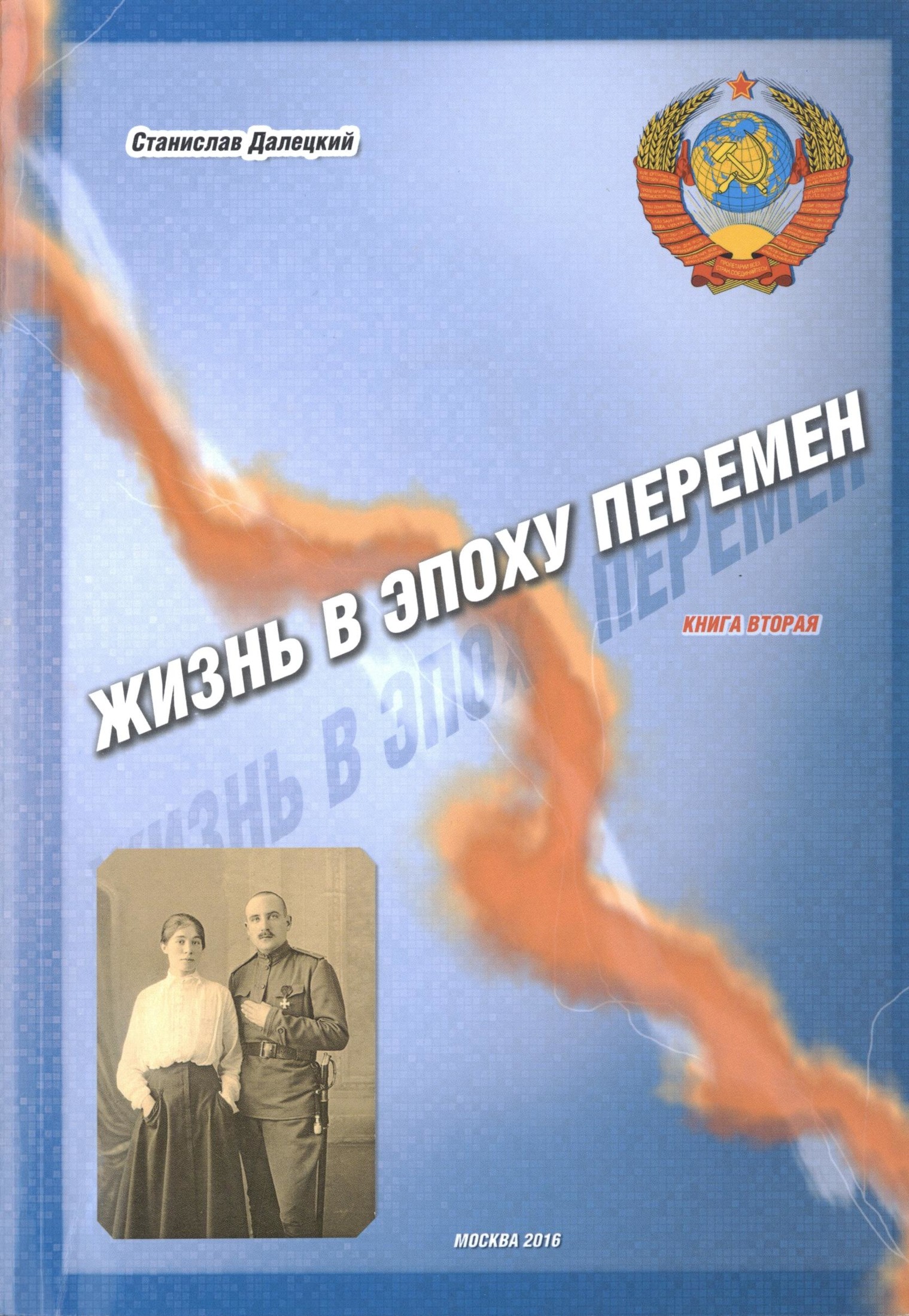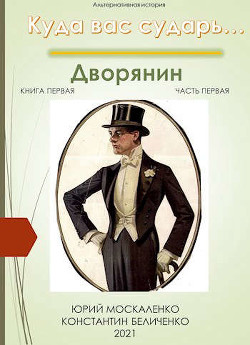селу с молодой женой и отцом, намереваясь потом посетить и свою сестру, у которой было трое детей, старшему сыну должно быть под двадцать лет– вспоминал Иван.
Надежда переоделась из дорожного платья в городское и в сопровождении свёкра и мужа вышла из ворот усадьбы, направляясь по селу к церкви, где хотела поставить свечу за благоприятный приезд на родину мужа, о чём и сказала Ивану. Мужчины одобрили её намерения, и вся троица пошла вдоль села под любопытствующие взгляды сельчан. Был тёплый и тихий августовский день на исходе лета, когда природа замерла в ожидании ненастья осени, до которого ещё очень далеко, но смолкли голоса птиц, и невесомые паутинки в воздухе свидетельствовали о скором окончании погожих летних дней.
Жатва ещё не наступила, и крестьяне занимались вывозом заготовленных в лесах дров, чтобы было чем обогреваться в долгие зимние месяцы.
Иван уехал из села семнадцать лет назад, и сейчас с интересом искал значительных изменений в жизни родного поселения, но не находил их.
Ничто почти не изменилось за прошедшие годы.
Мужики работали во дворах, приветливо снимая картузы, когда трое господ проходили мимо, детвора бегала вдоль улицы, поднимая босыми ногами столбы пыли, как прежде это делал Иван со своими сверстниками. Они стали уже степенными мужиками, обзавелись жёнами и детьми, и Иван встречал их иногда у церкви в свои прошлые приезды. Но говорить с ними было не о чем. Жизнь развела их по уготовленным местам: мужики занимались крестьянским делом, а барин, каковым считался Иван, стал уважаемым учителем высокого сословия, перед которым не грех было ломать шапку, а не вести беседу на равных. Два его друга: Федор и Егор давно уехали из села и след их затерялся на просторах России.
Ивану показалось, что село как-то съёжилось и поблекло со времени его детства, крестьяне выглядели более бедно по одежде, понуро, безысходно и без былого достоинства, как в его детские годы.
– Что-то сельчане не веселы и трудятся без огонька, – или это мне показалось? – спросил Иван отца, который шёл рядом, опираясь на палку после болезни.
– Так оно и есть, – ответил Пётр Фролович. – Прошлый год был неурожай, по дождливой осени рожь и пшеница вымокли, да и картошку собирали по грязи, поэтому весной многие голодали, а нынче весна выдалась маловодной, дожди запоздали, зерно в колосьях не налилось и, видимо, урожай будет сам-три не больше, значит, зимовать снова придётся многим семьям впроголодь. А в прошлые годы Столыпин с земельной реформой покусился на общинные земли, и кто побогаче и половчее из мужиков, отхватили себе лучшие земли в собственность остальным теперь лыко приходится жевать, а не хлебушек.
Мне крестьяне говорят иногда, что при помещичьей крепости – при твоём деде Фроле, они жили много лучше, чем в нынешние времена. Да ещё перекупщики из жидовских местечек крестьян одолели: по весне, когда самая бескормица, они дают деньги в рост, под будущий урожай по низкой цене, а сейчас мужик уберёт урожай и сразу всё отдаст в счёт долга.
– Что ты, отец, сейчас нельзя говорить жид, это некультурно, принято говорить иудей, – поправил Иван отца. – Да мне всё равно, как их называть, только ловкачи эти сами себя в наших местах называют жидами и никогда не обижались на это прозвище, возразил отец. Помнится, в пятом году были погромы, так в газетах их называли еврейскими погромами. Чудно получается: народ один, а называются и жидами, и евреями, и вот ещё ты сказал – иудеями, – прямо троица какая-то, прости Господи, – закончил Пётр Фролович и перекрестился на церковные купола, что показались вдали за изворотом улицы.
Они зашли в церковь, поставили свечки, постояли молча, потом вышли на двор, зашли на погост и Иван показал Надежде могилку своей матери, которая за лето заросла бурьяном, сквозь который был едва виден простой деревянный крест, поставленный много лет назад и уже изрядно подгнивший. Пётр Фролович тоже заметил запустение на могиле своей жены и пообещался осенью снова заменить крест и прибрать могилку. – Всё руки не доходят, – объяснил он сыну, – кажется и дел никаких нет, но забываю, да и старики не советуют менять кресты на погосте – плохая, мол, примета для родственников.
Иван молча постоял у могилы матери, пытаясь вспомнить её ещё живую, но образ расплывался, колебался перед глазами, и вдруг отчётливо представилось чужое и белое лицо матери в гробу, увиденное им на похоронах, когда закрывали крышку гроба. Он перекрестился, отгоняя неприятное видение, и тотчас вспомнил родное лицо матушки, когда на веранде она читала ему книжку, а он, совсем маленький мальчик, сидел рядом, прижавшись к ней и обхватив мать за руку.
– Может, к сестре Лидии зайдем все вместе, – предложил Иван отцу и Надежде, – посмотрим на детвору, хотя её старшему сыну уже под двадцать лет будет.
– Нет, сходите без меня, – отказался Пётр Фролович. Старший сын у неё в городе, служит приказчиком в магазине своего дяди, а с Лидиным мужем мы как-то не ладим и встречаемся лишь по престольным праздникам. Но Лида заходит иногда ко мне на дом и приводит внука и внучку – у неё же трое детей, и эти уже почти взрослые отроки: восемнадцать и пятнадцать лет.
– Ладно, потом навещу сестру, – согласился Иван. Они прошли до магазина, Пётр Фролович прикупил кое-что из снеди для стола и возвратились в усадьбу, где Фрося уже парила и жарила что-то вкусное, так что ароматные запахи разлетались по всему двору, привлекая ос, что кружились вокруг поварихи и залетали на веранду в поисках пищи.
На глазах Ивана оса схватила жирную муху на столе, ударом жала умертвила её, мощными жвалами остригла крылья и лапки и, подхватив аккуратное тельце, улетела прочь в своё осиное гнездо, где-то неподалёку. Иван, подивившись ловкости крылатой и полосатой хищницы, прошёл в дом вместе с Надеждой, где они переоделись в отведённой им комнате, ожидая приглашения на обед.
Ждать пришлось недолго. Постучав в дверь, вошёл Пётр Фролович в мундире капитана артиллерии, который он надевал в особо торжественных случаях, и пригласил молодых на обед по случаю их приезда в родной дом. Стол был накрыт в гостиной, и Фрося распоряжалась уже на правах хозяйки, о чём Иван предупредил свою Надю.
– Понимаешь, Надя, отец с ней сожительствовал ещё до смерти матери, когда она уже тяжело болела. Возможно, мать и догадывалась об этом, но виду не подавала, и огласки не было. А после смерти матери, перед моим отъездом на учёбу, Фрося окончательно переселилась в усадьбу