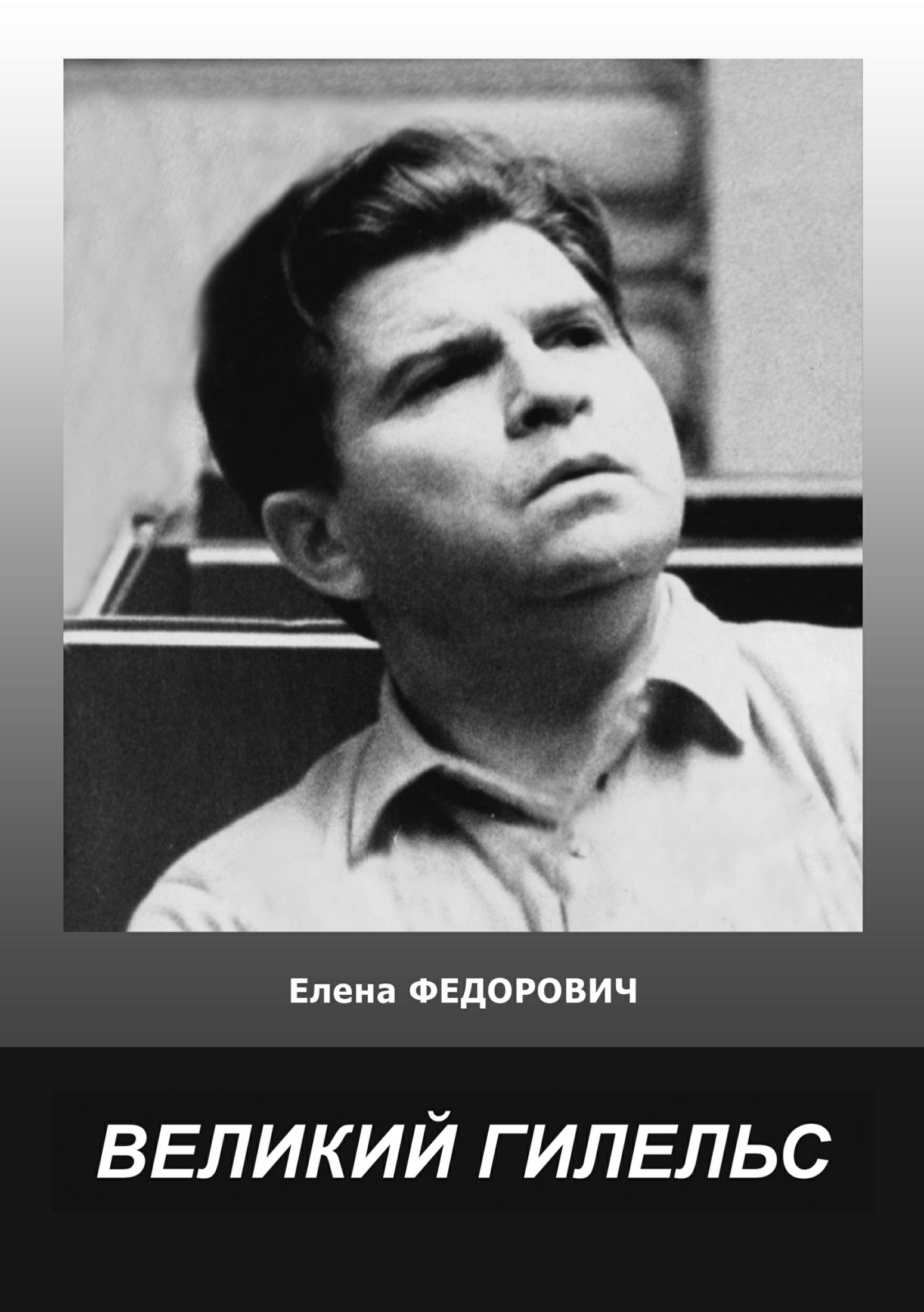дома. Он пишет, сравнивая Гилельса с величайшими пианистами прошлого: «Если собрать все, что я знаю о пианистах и высчитать, какими были те, великие, то, думаю, Эмиль Григорьевич их всех превосходит в пианистическом плане. …Может быть, она [виртуозность] была у Горовица, но дело в том, что у Горовица просто не было ума Эмиля Григорьевича. Эмиль Григорьевич был удивительно умным человеком и умным музыкантом. …Его виртуозность была гармоничной. И если брать
виртуозность в лучшем смысле этого слова (курсив мой. – Е.Ф.) – о которой сейчас говорить просто не приходится, просто нет этого понятия, – то ему, пожалуй, не было равных. …Думаю, такого не было вообще. Может быть, Лист так играл…»
84.
Но именно виртуозность Гилельса, которой восхищались выдающиеся музыканты как явлением высшего художественного порядка, во многих критических статьях, выходивших в течение его жизни, и в публикациях, затрагивающих его имя после его ухода, постоянно сводят к «беглости», технике в узком смысле. Это не что иное, как терминологический подлог.
Производят этот подлог с использованием терминов «мастерство» и «пианизм». Мастерство – это понятие, в какой-то мере отделенное от «содержания», но более широкое, чем техника (беглость): в него входят также артикуляция, агогика, педализация и пр. За «мастерством» обычно идет еще одно распространенное понятие: «пианизм». Им часто пользуются, потому что это удобно: оно обычно шире, чем «мастерство», тем, что подразумевает также и звучание инструмента, звуковые качества пианиста. Иначе говоря, «пианизм» – это все, что звучит. А уже что при этом подразумевается, возникает как образ – это «содержание».
И тут производится подмена понятий по отношению к Гилельсу. У него потрясающий звук, на основе которого и возникают потрясающие образы. Но звук входит и в понятие «пианизм»; это понятие чуть-чуть сдвигают в сторону «мастерства»… И получается: величие Гилельса – в технике. Наиболее бессовестные при этом двигают понятия еще дальше – к «технике в узком смысле». Гилельс – великий музыкант – превращается в «технаря».
И все это, напомним, зиждется на том, что у Гилельса – непревзойденный звук, признанно лучший среди пианистов. Логика: Гилельс лучше, и этим он хуже.
Итак, есть как минимум три мифа, делающих из великого музыканта – технаря; из гениально одаренного и всю жизнь восходящего ко все более высоким вершинам мыслителя и виртуоза – старательного ученика; из честнейшего, смелого и на редкость скромного человека, прожившего трудную жизнь, – бессовестного царедворца. Заложил их Г.Г. Нейгауз, возможно, сам не желая такого эффекта, – просто он очень любил другого своего ученика, и ему казалось, что того обижают, а этому и так хорошо.
Затем мифы развили и обогатили десятки музыкантов – от тех, кому по каким-либо причинам не нравился лишенный вычурности стиль Гилельса, до завистников и просто желавших выслужиться, заявив о своей приверженности «запретному», «интересному» и осудив «официальное». Потом их повторили, приняв на веру, сотни в разной степени компетентных людей; приняли к сведению тысячи тех, кто вообще мог их фигурантов никогда не слышать. Мифы зажили, как им и полагается, собственной жизнью. Но жизнь их оказалась продолжена еще рядом обстоятельств.
ВЕЛИКИЙ И ПРИСТРАСТНЫЙ
Изложив основное содержание широко распространенных мифов в отношении Гилельса, мифов, заложенных Г.Г. Нейгаузом, предвижу возражения: Нейгауз умер в 1964 году, Гилельс после него прожил более двух десятилетий, да еще примерно столько же времени прошло с ухода Гилельса. Какое же это все может иметь отношение к сегодняшней действительности?
Такой вопрос могут задать, конечно, скорее люди молодые, для которых все эти имена уже превращаются в «ископаемые»; однако такая поросль уже есть или неизбежно появится с течением времени. Поэтому нелишне напомнить, кто такой был, есть и будет Генрих Нейгауз.
Сказать, что он был великий фортепианный педагог, или, может быть, даже величайший, недостаточно. Нейгауз – один из величайших педагогов в истории педагогики вообще. Мало можно назвать еще случаев, когда одному человеку удавалось создать столь блистательную, разветвленную и продолжающуюся в последующих поколениях школу с подобными же результатами и подобным влиянием на культурную жизнь.
Впитав в себя лучшие традиции и мировой культуры, и русской исполнительской школы, Нейгауз вырастил столь блестящих учеников, что в любой иной школе, другой культуре каждый из них стал бы единственным на несколько поколений. Речь уже идет не только о Гилельсе и Рихтере, и даже не только о еще как минимум дюжине «сверхзвезд» из учеников Г.Г. Нейгауза, но о десятках музыкантов высочайшей квалификации и культуры. Большинство из них восприняли не только исполнительские, но и педагогические традиции учителя, и сегодня «школа Нейгауза», разросшаяся и распространившаяся на весь мир, не имеет равных и не будет их иметь еще долго.
Отдельный разговор – книга Нейгауза «Об искусстве фортепианной игры». Наверняка потомки напишут замечательные книги, но такую любимую практически всеми музыкантами – вряд ли. Во всяком случае, за последние полвека не написали. Она необычна тем, что содержит в себе признаки одновременно и фундаментального научно-методического труда, и произведения искусства. Последнее возникает от колоссального сжатия смысла – функции музыкантского мышления, в высокой степени свойственного Нейгаузу. Смысловая насыщенность в сочетании с афористичностью, ассоциативностью, остроумием – те ее особенности, которые обеспечивают чтению легкость, увлекательность и мгновенно делают читателя сторонником автора по всем изложенным вопросам. Методические постулаты укладываются в голову читающих, окрашенные очень личностным, эмоционально освещенным отношением автора, и читатель превращается в почитателя Нейгауза.
Наконец, личность Генриха Густавовича… Об это написано больше всего, и наверняка живущие ученики напишут еще. Скажу от себя: на человека, родившегося уже в совершенно другом поколении и никогда не видевшего и не слышавшего Г.Г. Нейгауза (мне, правда, посчастливилось видеть и слышать Станислава Генриховича), впечатление, произведенное от услышанного в записи и прочитанного, таково, что эта личность представляется одной из самых ярких из всего познанного в жизни. Что же говорить о тех, кто общался с ним?
Особо следует обратить внимание на всегдашний налет оппозиционности, сопровождавший Г.Г. Нейгауза. Дело не только в том, что он сидел в тюрьме, – хотя среди музыкантов это даже в те годы было редкостью, – сколько во всем его облике, абсолютно не стыковавшимся ни с чем советским. Сама его обширнейшая культура противоречила окружавшей действительности; а он был еще остроумен, смел в разговоре и позволял себе «проезжаться» по власть имущим. Для интеллигенции, у которой оппозиционность всякой, в особенности такой власти, в крови, это было еще одним сильнейшим фактором, поднимавшим авторитет Нейгауза, придававшим особый вес всему, что он говорил и писал.
И вот вспомнив и представив все это, вернемся к его слабости – пристрастному отношению