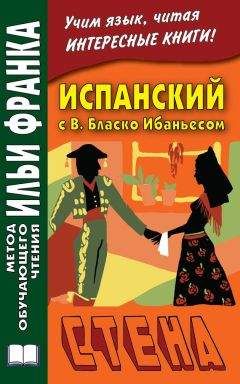Черезъ нѣсколько дней, когда первое впечатлѣніе сгладилось, въ роскошномъ особнякѣ возобновились тѣ приаадки, что постоянно случались при прежнемъ образѣ жизни.
Реновалесъ заставалъ ее въ столовой, всю въ слезахъ, причемъ она никогда не могла объяснить причины ихъ. Когда онъ пытался обнять и приласкать ее, какъ ребенка, маленькая женщина сердилась, точно онъ наносилъ ей оскорленіе.
– Оставь меня! – кричала она, устремляя на него враждебный взглядъ. – He смѣй трогать меня. Уходи.
Иной разъ онъ искалъ ее по всему дому, тщетно спрашивая у Милиты, гдѣ мать. Привыкши къ ея постояннымъ припадкамъ, дѣвочка, со свойственнымъ всѣмъ здоровымъ дѣтямъ эгоизмомъ, не обращала на нихъ ни малѣйшаго вниманія и спокойно продолжала играть своими безчисленными куклами.
– He знаю, папочка, – отвѣчала она самымъ естественнымъ тономъ. – Навѣрно, плачетъ наверху.
И мужъ находилъ Хосефину гдѣ-нибудь въ углу въ верхнемъ этажѣ, либо въ спальнѣ у кровати, либо въ уборной. Она сидѣла на полу, подперевъ голову руками и устремивъ въ стѣну неподвижный взглядъ, словно видѣла тамъ что-то таинственное, скрытое ото всѣхъ остальныхъ. Она не плакала теперь; глаза ея были сухи и расширены отъ ужаса. Мужъ тщетно пытался развлечь ее. Она относилась къ нему холодно и равнодушно. Ласки мужа не трогали ея, какъ будто онъ былъ чужой, и между ними не существовало ничего, кромѣ полнѣйшаго равнодушія.
– Я хочу умереть, – говорила она серьезнымъ и глубокимъ тономъ. – Я никому не нужна. Мнѣ хочется отдохнуть.
Но эта зловѣщая покорность скоро переходила въ бурю. Реновалесъ никогда не могъ отдать себѣ отчета, какъ это начинается. Самаго незначительнаго слова его, движенія, даже молчанія бывало часто достаточно, чтобы вызвать бурю. Хосефина брала вызывающій тонъ, и слова ея рѣзали, какъ ножъ. Она осуждала мужа за все, что онъ дѣлалъ и чего не дѣлалъ, за самыя незначительныя привычки, за работу, а затѣмъ, удлиняя радіусъ своей критики и желая подчинить ей весь міръ, она выливала потокъ брани на важныхъ особъ, составлявшихъ кліентуру мужа и доставлявшихъ ему огромный заработокъ. Все это были скверные люди, достойные величайшаго презрѣнія. Почти всѣ они были отъявленными ворами. Мать-покойница разсказала ей не мало исторій про этотъ міръ. А дамскій элементъ Хосефина прекрасно знала и сама; почти всѣ молодыя дамы высшаго свѣта были ея подругами по школѣ. Онѣ выходили замужъ только, чтобы обманывать мужей. За каждой числилось не мало скандальныхъ исторій. Это были подлыя женщины, хуже тѣхъ, что промышляютъ по вечерамъ на улицѣ. Ихъ собственный особнякъ съ его великолѣпнымъ фасадомъ, лавровыми гирляндами и золотыми буквами былъ ничто иное, какъ публичный домъ. Настанетъ еще день, когда она явится въ мастерскую и выгонитъ всю эту грязную компанію на улицу. Пусть заказываютъ портреты другимъ художникамъ!
– Боже мой, Хосефина! – шепталъ Реновалесъ въ ужасѣ. – He говориже такихъ вещей. Ты не можешь серьезно думать такъ. Я не вѣрю своимъ ушамъ. Милита можетъ услышать тебя.
Нервы ея не выдерживали, и она заливалась слезами. Реновалесу приходилось вставать и вести ее въ спальню, гдѣ она ложилась въ постель и кричала въ сотый разъ, что желаетъ умереть поскорѣе.
Жизнь эта была особенно тяжела Реновалесу изъ-за супружеской вѣрности; любовь къ женѣ, смѣшанная съ привычкою и рутиною, никогда не позволяла ему измѣнять ей.
По вечерамъ собирались въ его мастерской пріятели, среди которыхъ ближе всего былъ знаменитый Котонеръ, переѣхавшій изъ Рима въ Мадридъ. Когда они сидѣли въ пріятномъ полумракѣ сумерекъ, располагавшемъ къ дружеской бесѣдѣ и откровенности, Реновалесъ заявлялъ товарищамъ всегда одно и то же:
– До свадьбы я развлекался, какъ всѣ мужчины. Но съ тѣхъ поръ, какъ я женился, я не знаю иной женщины кромѣ своей жены и очень горжусь этимъ.
И крупный дѣтина гордо выпрямлялся, самодовольно поглаживая бороду. Онъ хвастался своею супружескою вѣрностью, какъ другіе любовными удачами.
Когда въ его присутствіи говорили о красивыхъ женщинахъ или разглядывали портреты иностранныхъ красавицъ, маэстро не скрывалъ своего «ъодобренія.
– Да, она красива! Она очень недурна… – мнѣ хотѣлось бы написать съ нея портретъ.
Его преклоненіе передъ женскою красотою никогда не выходило изъ предѣловъ искусства. Для него существовала въ мірѣ только одна женщина – его жена. Остальныя могли только служить моделями.
Онъ, упивавшійся мысленно физическою красотою и относившійся къ обнаженному тѣлу съ благоговѣйнымъ восторгомъ, не желалъ знать иныхъ женщинъ кромѣ законной жены, которая становилась все болѣзненнѣе и печальнѣе, и терпѣливо ждалъ съ покорностью влюбленнаго, когда проглянетъ, наконецъ, лучъ солнца, и настанетъ минута покоя среди вѣчныхъ бурь.
Врачи признавались въ своемъ полномъ безсиліи перелъ нервнымъ разстройствомъ Хосефины, губившимъ ея слабый организмъ и совѣтовали мужу быть съ нею какъ можно ласковѣе и внимательнѣе. Кротость Реновалеса удвоилась подъ вліяніемъ этихъ внушеній. Врачи приписывали нервное разстройство тяжелымъ родамъ и кормленію, надорвавшимъ слабое здоровье молодой матери. Они подозрѣвали кромѣ того существованіе какой-нибудь тайной причины, поддерживавшей больную въ состояніи постояннаго возбужденія.
Реновалесъ, слѣдившій за женою въ надеждѣ добиться когда нибудь мира въ домѣ, скоро открылъ истинную причину болѣзни жены.
Милита подростала. Она была уже почти врослая. Ей было четырнадцать лѣтъ, и она носила длинныя платья, привлекая своею красотою и здоровьемъ алчные взгляды мужчинъ.
– Скоро настанетъ день, когда она упорхнетъ отъ насъ, – говорилъ иногда маэстро, смѣясь.
Слыша разговоры о свадьбѣ Милиты и будущемъ зятѣ, Хосефина закрывала глаза и говорила сдавленнымъ голосомъ, въ которомъ звучало непреодолимое упорство:
– Она выйдетъ замужъ за кого хочетъ… но только не за художника. Лучше пусть умретъ въ такомъ случаѣ.
Реновалесъ догадался тогда объ истинной болѣзни жены. Это была ревность, бѣшеная, смертельная, непримиримая ревность и тяжелое сознаніе собственной болѣзненности. Хосефина была увѣрена въ мужѣ и знала, что онъ не разъ заявлялъ о своей супружеской вѣрности. Но говоря въ ея присутствіи объ искусствѣ, художникъ не скрывалъ своего восторга передъ наготою и своего религіознаго культа красивыхъ формъ женскаго тѣла. Онъ не высказывалъ всего, но Хосефина читала въ его мысляхъ. Она понимала, что любовь къ наготѣ, зародившаяся въ немъ въ юномъ возрастѣ, только усилилась съ годами. Глядя на чудныя статуи, украшавшія его мастерскія, или просматривая альбомы, гдѣ женская нагота сіяла во всей своей божественной красѣ на темномъ фонѣ снимковъ, Хссефина сравнивала ихъ мысленно со своимъ тѣломъ, обезображенномъ болѣзнью.
Глаза Реновалеса, съ восторгомъ упивавшіеся прежде ея чудными руками съ граціозными контурами, крѣпкими грудями, напоминавшими опрокинутыя алебастровыя чаши, боками съ изящными линіями, бархатно-округленною шеей и прелестными, стройными ногами, созерцали теперь по ночамъ ея слабое тѣло съ выступающими рядами реберъ; символы женщины, прежде крѣпкіе и сладострастные, висѣли теперь, какъ тряпки; кожа на рукахъ была покрыта желтыми пятнами; ноги были худы, какъ у скелета. Этотъ человѣкъ не могъ любить ея. Его вѣрность держалась только на состраданіи, можетъ-быть на привычкѣ къ безсознательной добродѣтели. Хосефина не могла повѣрить, чтобы мужъ сохранилъ любовь къ ней. У другого человѣка это было-бы мыслимо, но отнюдь не у художника. Онъ восторгался днемъ красотою, а ночью сталкивался съ безобразіемъ, истощеніемъ и физическимъ уродствомъ.
Ревность мучила Хосефину, отравляла ея мысли, подтачивала силы. Ревность эта была безутѣшна, тѣмъ болѣе, что она не имѣла реальнаго основанія.
Хосефинѣ было невыносимо тяжело признавать свое безобразіе; она завидовала всѣмъ рѣшительно и жаждала смерти, но мучила окружающихъ, чтобы увлечь ихъ въ своемъ паденіи.
Наивныя ласки мужа дѣйствовали на нее, какъ оскорбленіе. Онъ можетъ-быть любилъ ее и подходилъ къ ней съ наилучшими намѣреніями, но она читала въ его мысляхъ и видѣла въ нихъ своего непобѣдимаго врага, соперницу, побѣждавшую ее красотою. Хосефина не могла совладать съ этимъ. Она была связана съ человѣкомъ, который былъ вѣренъ культу красоты и не могъ отказаться отъ него. О, съ какою тоскою вспоминала она тѣ дни, когда она защищала отъ мужа свое юное тѣло, не позволяя воспроизводить его на полотнѣ. Если бы юность и красота вернулись къ ней теперь, она сбросила бы одежду безо всякаго стыда, встала бы посреди мастерской съ дерзостью вакханки и крикнула бы мужу: