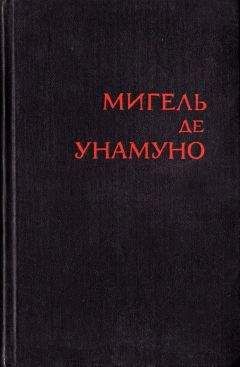Но это очень деликатный вопрос, и углубляться в него мы не будем.
Прежде чем закончить наш пролог, мы почитаем своим долгом сделать одно разъяснение и тем исполнить волю автора. Когда он решил опубликовать этот свой роман вопреки советам тех, кто его от этого отговаривал, он в первую очередь беспокоился насчет объема и формата книги, которым он придает весьма важное значение.
Дело в том, что прошлым летом он был в Бильбао, своем родном городе, и, зайдя в книжную лавку, попросил хозяина оставить для него несколько экземпляров его романа «Мир во время войны» и книги «Три очерка»,[3] а тот сказал ему, что при публикации следующей книги надо тщательно продумать ее объем и другие вещественные атрибуты, добиваясь по возможности, чтобы все его произведения были одного размера. По этому поводу хозяин лавки рассказал, что случилось с одним из его покупателей.
Покупатель этот в разное время заказывал полный собрания сочинений Гальдоса, Переды, Валеры, Паласио Вальдеса, а также других именитых и популярных писателей, и заказы его выполнялись. А потом он попросил сочинения Пикона[4] и, когда те пришли, скривился и сделал кислую мину: книги были разного формата, они отличались друг от друга по длине, ширине и толщине.
– Как же мне переплести их в виде полного собрания сочинений Хасинто Октавио Пикона, если они все разной величины?
– Владелец лавки, не желая терять хорошего покупателя, согласился оставить книги у себя, на том и порешили; покупатель отобрал две-три книги, интересовавшие его более других, а может, они были одинаковые по формату. Памятуя об этом случае, владелец лавки и посоветовал сеньору Унамуно позаботиться о том, чтобы его книги были одинаковы по объему и формату, тогда их легче будет сбыть.
Ведь нечего греха таить: одни покупают книги, чтобы читать их, таких меньшинство, а другие – чтобы составить библиотеку, и таких большинство. Но для библиотеки очень неудобно, когда книги одного и того же автора, которые должны стоять рядом, не могут быть выстроены в ровную линию без выступов и впадин.
Однако, поскольку сеньор Унамуно пока что пишет книги для читателей, а не для составителей библиотек, его заботы по поводу формата книги представляются нам безосновательными; эти важные соображения лучше оставить до тех времен, когда он приступит к изданию полного собрания своих сочинений; и мы льстим себя надеждой, что это произойдет в недалеком будущем. Вот тогда он будет издавать своп книги для домашних библиотек, а теперь пусть уж довольствуется их изданием для читателей.
Автор согласился с этими доводами, ему и в самом деле безразлично, каким форматом будет издана эта его книга. На это решение – как, впрочем, и на его стиль, – по-видимому, повлияло известное пренебрежение внешними формами вообще, с которым мы едва ли можем согласиться.
Подводя итог нашим рассуждениям, мы приглашаем читателя прочесть книгу, от которой он, надо полагать, получит некоторое удовольствие, а также, как нам хотелось бы надеяться, и определенную пользу.
Мы можем выдвигать гипотезы – более или менее обоснованные, но все же лишь гипотезы – по поводу того, как, когда, где, почему и для чего родился Авито Карраскаль, Он весь в будущем, о своем прошлом никогда не упоминает, а раз он сам этого не делает, то и мы отнесемся с уважением к его тайне. Видимо, у него были основания предать свое прошлое забвению.
В рамках нашего повествования он предстает перед нами пылким адептом всяческого прогресса, горячо влюбленным в социологию. Живет он в пансионе, и его научные тезисы, излагаемые зa табльдотом между супом и жарким, а также за десертом, весьма способствуют пищеварению его сотрапезников.
Располагая ежегодной рентой, он тишком, не привлекая к себе внимания, проделал в часы досуга титанический труд, направленный на подчинение всякого своего инстинкта рассудку, и всего себя поставил на научную основу. Он ходит в соответствии с законами механики, переваривает пищу по химическим формулам, заказывает платье, руководствуясь правилами начертательной геометрии. Часто он заявляет: «Наука – единственный учитель жизни», и тут же думает: «А не жизнь ли – s учитель пауки?»
Но его конек – социологическая педагогика.
– Она будет знамением нашей эпохи, – говорит он, щелкая орехи, своему сотрапезнику и почитателю, которого зовут Синфориано, – никому еще невдомек, чего можно достичь с ее помощью…
– Некоторые полагают, что удастся создать человека в колбе путем органо-химического синтеза, – робко замечает Синфориано, студент факультета естественных наук.
– Не стану отрицать, ибо человек, создающий богов по своему образу и подобию, способен на все; но для меня нет никаких сомнений в том, что с помощью социологической педагогики удастся создавать гениев, а в тот день, когда все люди на земле, станут гениями… – Авито Карраскаль проглатывает ядрышко.
– Но какова теория, дон Авито! – восклицает, не в силах сдержаться, будущий эрудит в области естественных наук.
– Вы знаете, друг мой Синфориано, как пчелы создав ют себе матку?
– Нет, этого мы еще не проходили…
– Тогда, может, не стоит, потому что, согласно методике…
– Стоит, стоит! Ну, пожалуйста, дон Авито! Какая теория! Какая теория!
– Так вот, они берут любое яйцо, зародыш женской особи, обыкновенное яйцо, ничем не выделяющееся из других – заметьте, Синфориано, заурядный зародыш женской особи, – и за счет ухода, специфического режима, откармливая личинку королевской или царской массой, используя правильную пчелиную педагогику – или, если выражаться профессионально, мелисагогику,[5] – они выращивают для себя матку…
– Какая теория! Какая теория!
– Нет, друг мой Синфориано, не теория, это факт. А почему бы нам, людям, не делать со своими детьми того, что пчелы делают со своими личинками? Взять ребенка, любого ребенка, лишь бы это был мальчик, а не девочка…
– Позвольте, дон Авито… – почтительно перебивает его Синфориано и, когда создатель теории замолкает, обращается к нему с вопросом; – А почему именно мальчик?
– А почему пчелиная матка может получиться только из личинки женской особи? Вот и среди людей гений бывает только мужского рода.
– Какая теория!
– Стало быть, берем произвольно мальчика; начиная с эмбрионального состояния применяем к нему социологическую педагогику и получаем гения. Гения создают, что бы там ни гласила пословица; да, создают… создают, Скажете, нет? Я это продемонстрирую…
Изумленный Синфориано молча таращит глаза на оратора, а тот добавляет, раскалывая орех:
– Как продемонстрирую? Как? На фактах, разумеется!
– О, на фактах! – вздыхает Синфориано.
– Да, на фактах!.. – ответствует Карраскаль, и оба смотрят на хозяйку, которая несет сладкое сеньору советнику, обедающему у себя в комнате.
– Вкусные орехи? – спрашивает донья Томаса.
– Собственно говоря, большинство из них пустые, – замечает Карраскаль.
– Не может быть, дон Авито, они свеженькие, но двадцать четыре кругляша за селемин.
– Но тем не менее это так, сеньора донья Томаса! – энергично протестует Карраскаль.
Как только донья Томаса, окутанная облаком прозаических кухонных забот, исчезает за дверью, Авито продолжает:
– Вот именно, на фактах, любезный Синфориано, на фактах!
– О, на фактах!
– Я давно уже вынашиваю грандиозный план претворения в жизнь моей теории путем применения ее in tabula rasa.[6]
– Вы собираетесь стать учителем?
– Нет, я пойду дальше.
– Дальше?
– Дальше, конечно. Я стану отцом!
«А что, отцом делаешься сам, или тебя им делают?» – думает будущий магистр естественных наук, но вслух лишь произносит;
– Какая теория, дон Авито! О, какая теория!
Они встают из-за стола и расходятся, один – чтобы донашивать свой план, другой – чтобы подготовить очередное задание. Синфориано – примерный студент, он вечно озабочен тем заданием, что получил на завтра, а также тем, что не выполнил вчера.
Карраскаль и в самом деле решает приискать особу женского пола для себя – вернее, для своего грандиозного проекта, – жениться на ней, дождаться от нее сына, применить к нему свою систему социологического воспитания и сделать из него гения. Из любви к педагогике он решает жениться дедуктивно.
Прежде чем продолжить наш рассказ, следует пояснить, что браки подразделяются на индуктивные и дедуктивные. Практически весьма часто случается так, что мужчина, обретаясь в этом мире, натыкается на изящную фигурку, манеры и походка которой заставляют дрожать волокна его спинного мозга, а ее глаза и губки ранят сердце; он влюбляется, теряет голову и, будучи захлестнут этой прибойной волной, видит лишь один способ всплыть на поверхность: получить в свое владение изящную фигурку вкупе с духовным содержанием, если таковое имеется. Это индуктивный брак. В другом случае мужчина, достигнув определенного возраста, начинает ощущать какую-то непонятную пустоту, ему чего-то не хватает, и вот, придя к мысли, что человек не должен жить в одиночестве, приступает к поискам живого сосуда, в который он мог бы излить избыток жизненных сил, проявляющийся в ощущении, что ему чего-то не хватает. Находит женщину и вступает с ней в дедуктивный брак. Иными словами, в первом случае сначала появляется подеста, потом мысль о женитьбе, а во втором – мысль о женитьбе приводит нас к невесте. Брак будущего отца гения, разумеется, должен быть (ну еще бы!) дедуктивным.