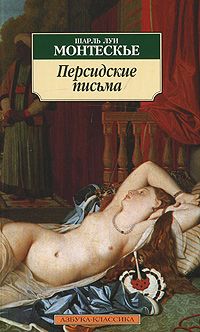Можно сказать, что я узнал женщин только с тех пор, как нахожусь здесь; в один месяц я изучил их лучше, чем мог бы изучить в серале за тридцать лет.
У нас все характеры однообразны, потому что все они вымучены; мы видим людей не такими, каковы они на самом деле, а такими, какими их принуждают быть. В этом порабощении сердца и ума слышится только голос страха, — а у страха лишь один язык; это не голос природы, которая выражается столь разнообразно и проявляется в столь многих формах.
Притворство — искусство, у нас весьма распространенное и даже необходимое, — здесь неизвестно: все разговаривают, все видятся друг с другом, все слушают друг друга; сердца открыты так же, как и лица; в нравах, в добродетели, даже в пороке всегда замечаешь что-то наивное.
Чтобы нравиться женщинам, надо обладать некоторым талантом, независимо от той способности, которая нравится им еще больше: этот талант заключается в особой игривости ума, забавляющей женщин потому, что она каждое мгновение обещает им то самое, что можно исполнять только через большие промежутки времени.
Эта игривость, созданная для будуарных разговоров, дошла, кажется, до того, что стала отличительной чертой национального характера; шутят в Государственном совете; шутят во главе армии; шутят с послом. Любая профессия кажется нелепой, как только ей придают излишнюю серьезность: врач перестал бы вызывать насмешки, если бы его одежда была не столь мрачной и если бы он убивал своих больных шутя.
Из Парижа, месяца Ребиаба 1, 10-го дня, 1714 года
ПИСЬМО LXIV. Начальник черных евнухов к Узбеку в Париж
Не могу выразить тебе, светлейший повелитель, в каком я нахожусь затруднении; в серале беспорядок и страшное смятение; между твоими женами идет война; евнухи разделились на партии; только и слышишь жалобы, ропот и упреки; на мои уговоры никто не обращает внимания; при подобной распущенности все кажется дозволенным, и я в серале просто пустое место.
Каждая из твоих жен считает себя выше других по происхождению, красоте, богатству, уму и твоей любви; основываясь на каком-либо из этих преимуществ, каждая требует, чтобы ей во всем отдавали предпочтение; просто уж нет сил терпеть, хотя именно своим долготерпеньем я и имел несчастье возбудить их неудовольствие. Мое благоразумие и даже снисходительность — качества столь редкие на занимаемом мною посту и даже несовместимые с ним — оказались бесполезными.
Угодно ли тебе, чтобы я открыл причину всех этих беспорядков, светлейший повелитель? Вся она целиком в твоем сердце и твоем нежном отношении к женам. Если бы ты не удерживал меня, если бы вместо увещаний предоставил мне право наказывать, если бы вместо того, чтобы верить их жалобам и слезам, ты отсылал бы их плакаться ко мне, — а меня-то уж не разжалобишь! — я бы скоро приучил их к ярму, которое они должны носить безропотно, и укротил бы их своевольный и независимый нрав.
Пятнадцатилетним подростком я был вывезен из глубины Африки, с родины, и был сначала продан человеку, у которого было больше двадцати жен и наложниц. Заключив по моей серьезности и молчаливости, что я гожусь для сераля, он приказал приспособить меня для этой должности и подвергнуть операции, которая вначале была очень тягостной для меня, зато впоследствии оказалась благодетельной, ибо она приблизила меня к уху моих господ и доставила мне их доверие. Я вступил в сераль, как в новый для меня мир. Главный евнух, — самый строгий человек, какого я только знавал в своей жизни, — полновластно управлял сералем. Там и помину не было ни о каких ссорах и распрях; повсюду царствовала глубокая тишина; круглый год все женщины ложились спать и вставали в один и тот же час; они поочередно принимали ванну и выходили из нее по малейшему нашему знаку; в остальное время они почти всегда оставались взаперти в своих покоях. Правила предписывали содержать их в большой чистоплотности, и главный евнух относился к этому с исключительной внимательностью: за малейший отказ в повиновении их наказывали немилосердно. «Я раб, — говорил он, — но раб человека, который господин и вам, и мне, и я пользуюсь властью, которую он дал мне над вами: не я вас наказываю, а он; я только прикладываю руку». Женщины никогда не входили без зова в спальню моего господина; они радовались этой милости и безропотно мирились с ее лишением. А я, последний из черных в том мирном серале, пользовался там в тысячу раз большим уважением, чем в твоем, где распоряжаюсь всеми женщинами.
Главный евнух заметил мои способности и обратил на меня внимание; он сказал моему господину, что я в состоянии пойти по его стопам и стать со временем его преемником. Его не смущала моя крайняя молодость, он считал, что мое усердие заменит опытность. Да что говорить! Он настолько проникся доверием ко мне, что смело вручил мне ключи от заветных покоев, которые охранял столько лет. Под руководством этого великого наставника я научился трудному делу управления и выработал себе основы непреклонной власти. Под его руководством я познал сердца женщин; он научил меня пользоваться их слабостями и не смущаться их высокомерием. Часто он забавлялся, видя, как я довожу их до крайних пределов послушания; затем он постепенно ослаблял строгость и требовал, чтобы я некоторое время делал вид, будто уступаю им. Но надо было видеть его в те минуты, когда он доводил их до полного отчаяния, и они принимались то упрашивать его, то упрекать; он невозмутимо переносил их слезы и даже чувствовал себя польщенным такого рода торжеством. «Вот как нужно управлять женщинами, — говорил он с удовлетворением. — Мне нипочем, что их здесь много: я не хуже справился бы и с бесчисленными женами нашего великого монарха. Как бы мог супруг полонить их сердца, если бы его верные евнухи сначала не укротили их нрава?»
Он обладал не только твердостью, но и проницательностью; он читал в их мыслях и разгадывал их хитрости; ни нарочитыми жестами, ни притворным выражением лица они ничего не могли скрыть от него; он знал самые сокровенные их поступки и самые тайные речи; он пользовался одними, чтобы проникать в помыслы других, и охотно награждал малейшее разоблачение. Так как они никогда не входили к мужу без вызова, то евнух звал к нему ту, которую хотел, и по своему усмотрению привлекал внимание господина к той или иной из них. И это обычно бывало наградой за какую-нибудь разоблаченную тайну. Он убедил господина, что нужно предоставить ему этот выбор порядка ради, чтобы повысить его авторитет. Вот, светлейший повелитель, как управляли сералем, который, полагаю, был самым благоустроенным в Персии.
Развяжи мне руки; позволь мне требовать, чтобы меня слушались. Не пройдет и недели, и в этом гнезде неурядиц водворится порядок. Это нужно для твоей славы, этого требует твое спокойствие.
Из твоего испаганского сераля, месяца Ребиаба 1, 9-го дня, 1714 года
ПИСЬМО LXV. Узбек к своим женам в испаганский сераль
Я узнал, что сераль в беспорядке, что у вас беспрестанные ссоры и внутренний раздор. А ведь я просил, уезжая, чтобы вы жили в мире и добром согласии! Вы мне это обещали; или вы собирались меня обмануть?
Сами вы оказались бы обманутыми, если бы я последовал советам, которые дает мне главный евнух, если бы я пустил в ход свою власть, тогда как до сих пор я лишь уговаривал вас жить благонравно.
Я всегда прибегаю к насильственным мерам только после того, как испробую все остальные. Сделайте же ради самих себя то, чего вы не хотели делать ради меня.
Главный евнух имеет все основания жаловаться: он говорит, что вы ни в грош его не ставите. Как же можете вы согласовать такое своеволие с вашим скромным положением? Ведь именно главному евнуху вверил я вашу добродетель на время моего отсутствия. Ему поручил я это драгоценное сокровище. Но вы выказываете ему презрение и, стало быть, тяготитесь людьми, на коих возложена обязанность следить, чтобы вы соблюдали законы чести.
Измените же ваше поведение, прошу вас, и живите так, чтобы и в следующий раз я мог отвергнуть предложения, которые мне делаются с целью ограничить вашу свободу и нарушить ваше благоденствие.
Я хотел бы, чтобы вы забыли, что я ваш властелин, и чтобы сам я помнил только, что я — ваш супруг.
Из Парижа, месяца Шахбана 5-го дня, 1714 года
Здесь много занимаются науками, но я не знаю, так ли уж здесь люди учены. Тот, кто во всем сомневается в качестве философа, не решается ничего отрицать в качестве богослова. Такой противоречивый человек всегда доволен собою, лишь бы только договориться о том, какое ему носить звание.
Большая часть французов помешана на том, чтобы слыть умными, а тот, кто считает себя умным, помешан на том, чтобы писать книги.
Между тем хуже этого нельзя ничего придумать: природа, по-видимому, мудро позаботилась, чтобы человеческие глупости были преходящими, книги же увековечивают их. Дураку следовало бы довольствоваться уже и тем, что он надоел всем своим современникам, а он хочет досаждать еще и грядущим поколениям; он хочет, чтобы его глупость торжествовала над забвением, которым он мог бы наслаждаться, как могилой; он хочет, чтобы потомство было осведомлено о том, что он жил на свете, и чтобы оно вовеки не забыло, что он был дурак.