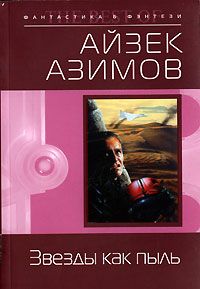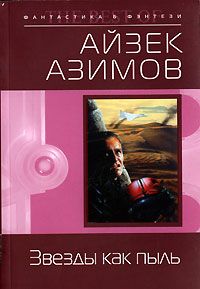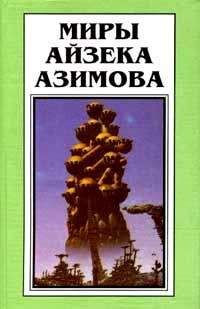Ваш дедушка был великий выдумщик, этого у него не отнимешь.
Когда полк попал в окружение, Батя выводил его с пистолетом в руке, не прячась за нашими спинами, а — впереди, как и полагается командиру. За что и получил звёздочку «героя». Правда, в наградной не записано, что в правой руке он держал пистолет, а в левой — собственный нос, завёрнутый в носовой платок.
Платок этот принадлежал мне, трофейный. К тому времени всё у нас было трофейное: от любовниц до подштанников.
В тот день нам не удалось наладить связь, мы не знали, что немцы передислоцировались и полк полностью окружён. Узнали только тогда, когда в окопах начали рваться снаряды. И летели они оттуда, где, по нашим соображениям, должны были находиться свои. Батя не растерялся и приказал выдвигаться. Вот тогда-то ему и ото-
рвало — не весь нос, конечно, а только кончик.
Это был последний снаряд: обстрел сразу же прекратился. Наступила тишина. Батя закрыл лицо руками и сказал: Сашка, ёб твою мать, мне нос оторвало! Он где-то здесь, ищи…
Быстро темнело, но мы, как ни странно, довольно быстро его отыскали. Отряхнули, уложили в платок, завязали…
Без носа Григорий Исаевич выглядел… своебразно… Но почему-то меня это не смутило тогда, а — наоборот, как бы привело мысли в порядок. Будто так и должно было случиться. Положение было безвыходное, все это понимали. Но когда мы увидали Батю. кровь заливала его лицо, оно казалось безумным, яростным, сумасшедшим, зато глаза были — светлыми и совершенно ясными, будто он точно знал, что делать. Все разом притихли: никакой паники, действовали слаженно — как на учениях или на параде. Команды отдавались шёпотом.
Никто не верил, что мы выйдем оттуда живыми. Шансов не было. В полной темноте, по пересечённой местности мы шли гуськом, глядя друг другу в затылок. Со всех сторон звучала немецкая речь. Мы были не просто в окружении, но — посреди вражеской территории, практически в расположении немецкой дивизии. Вопреки логике мы двигались навстречу врагу. Полк в полном составе прошагал прямиком в немецкий тыл.
Батя шёл впереди, следом за ним — я. Только однажды он обернулся: Сашка, как нос пришивать будем?
Я не ответил. Мы оба понимали, что сейчас не время: стоило немцам обратить внимание на то, что у них под носом творится, и нам было бы уже не до носа.
Когда, наконец, выбрались, бабушка ваша тут же взялась за дело и быстро его подлатала. Позже она признавалась, что, мол, была уверена: ничего не выйдет — слишком долго этот кусочек плоти был отделён от тела.
А два дня спустя, по хорошей пьяни, Батя вдруг выдал: что, Сашка, думаешь, это я вас из окружения выводил?
— Кто же ещё, Исаич? — к тому времени мы все на него чуть не молились. Только и разговоров было о том, как Батя нас вывел.
— Ничего ты не понимаешь, — сказал полковник, — вот если бы мне нос тогда не оторвало, хрена лысого ты бы теперь самогон попивал…
Уже после войны я слышал немало подобных историй, но никогда не верил. Помню одного деятеля, который полагал, что жизнью своей обязан любовной записке, которую носил всю войну в портсигаре: люди склонны приписывать удачу или интуицию амулетам, каким-то предметам — из суеверия или по глупости. Но тогда, после всего пережитого, поверил — сразу и безоговорочно.
Когда мы выходили из окружения, Батя ни о чём не думал и не смотрел по сторонам, он лишь поворачивал туда, куда вёл его нос. Ваш дедушка чувствовал на расстоянии комочек плоти, завязанный в платок — так, будто это был компас, указывающий верное направление.
Будто оторванный нос стал дополнительным органом — сродни зрению или слуху.
Органом чистого, незамутнённого знания.
В эти мгновения Батя точно знал, что нужно делать, но если бы он на мгновение усомнился или задумался, мы бы не выжили. Так-то вот.
Старичок замолчал. Гости выпили по последней и стали расходиться.
Было довольно поздно, мы вышли на двор — покурить.
Я смотрел на него, пытаясь разглядеть сквозь маску морщин лицо, принадлежавшее когда-то молоденькому ординарцу, и думал о том, что по части ошеломляющих розыгрышей моему покойному деду — пусть земля ему будет пухом — и в самом деле нет и не было равных.
О том, кто я такой, прежде меня самого прознал Чуня. Евреи не играют в футбол, — сказал он, отбирая у меня мяч.
Сам ты еврей!
Твой папа еврей, — невозмутимо продолжал Чуня.
Твоя тётя еврейка, — ответил я, пытаясь справиться с неожиданным приступом тоски и отчаяния.
Я точно знаю, — сказал Чуня, — и теперь все во дворе узнают, что твой папа еврей. А значит и ты — еврей. И дети твои будут евреями. И в паспорте у тебя будет написано: «еврей». Так что — бойся, тебе пиздец.
В каком смысле «пиздец»? — осторожно спросил я.
Теперь тебя все бить будут. Я буду. И Мишка Сапего. И Карась. И Цыпа. И даже Светка Зеленовская. Понял?
Ты — еврей? — спросил я дедушку.
Дедушка равнодушно кивнул, продолжая чистить картошку: да, мол, еврей. А в чём дело?
А я — нет! — сообщил я.
И ты еврей, — сказал дедушка, ни на секунду не отвлекаясь от своего занятия.
И папа еврей? — спросил я с ужасом. И папа, — спокойно ответил дедушка. И мама? И бабушка? Все евреи.
И тётя Аня? — не сдавался я. И тётя Аня. И дядя Коля?
Нет, — сказал дедушка, — дядя Коля — не еврей.
А почему тётя Аня — да, а дядя Коля — нет?
Дядя Коля — наш сосед, — пояснил дедушка, — а тётя Аня — сестра твоей бабушки.
Врёшь ты всё! — прошептал я и выскочил за дверь.
Тётя Тоня, я — еврей? — спросил я пожилую продавщицу в овощном магазине, которая всегда меня баловала и старалась при случае угостить — то яблочком, то пряничком.
Тётя Тоня подняла брови домиком. Впервые в жизни я видел её растерянной. А ведь она была из тех, кто за словом, как говорится, в карман не полезет. Амммм, — затянула она, — уммм…
Да или нет? — закричал я.
Ты еврей, — сказала вторая продавщица, молчаливая строгая тётя Люда. — Ты еврей и должен гордиться этим.
Меня же бить будут, тётя Люда!
Вот и хорошо, — сказала тётя Люда, — тебя бьют, а ты гордись.
Шо ж ты городишь? — заверещала тётя Тоня, — Людмила, зла на тебя нету. Шо ж ты дитё стращаешь?
Димочка, ну какой ты еврей? Не слушай никого. А если кто обижать будет по национальному. эмммм. признаку, мне скажи. Я Илюшу пришлю, он им покажет.
Илюша был вечно пьяненьким мужем тёти Тони. Что именно он способен показать обидчикам, я представлял с трудом, и все до единого предположения были, мягко говоря, неприличными.
Кирюха, я — еврей, — сказал я лучшему другу.
Тот помолчал немного и вдруг отвернулся. Приглядевшись, я понял, что он тихонько смеётся. Вот ведь гад! Не пожалев силы, я ткнул его в бок кулаком.
Дурак, — засмеялся он в голос, — думаешь, почему наш район «еврейским кварталом» называют? Тут евреев больше, чем грязи. Каждый второй — еврей.
И ты. тоже?
И я, — подтвердил Кирюха, — и Чуня. И Мишка Сапего. И Карась. И Цыпа. И даже Светка Зеленовская.
Вечером того же дня дедушка вручил мне красивый трофейный ящичек из нержавеющей стали, перевязаный красной лентой. Там было всего два предмета — малоформатное издание «Конармии» Бабеля (книжку бабушка тут же прибрала под тем предлогом, что мне, мол, такое читать рановато) и набор плоских солдатиков в картонной коробке с надписью 7 штук КОМПЛЕКТ КОНАРМИЯ для детей 7-12 лет Пришло время обновить личный состав. — сказал дедушка. — Принимай пополнение! А то всё у тебя пираты, ковбои, викинги, доисторические римляне, рыцари. какие-то — хрен поймёшь — неандертальцы, индейцы… не наши, не русские…
А эти-то чьи?
Эти-то?.. — задумался дедушка, внимательно разглядывая машущих шашками всадников в будёновках, пулемётчиков в тачанках и бравого командира в фуражке, с наганом. — Эти — свои, наши…
Еврейцы?.. — осторожно предположил я.
В детстве я болел скрипкой. Слушая Ойстраха, виртуозно перебирал пальцами и водил в воздухе воображаемым смычком. Хмурился как Ойстрах, дёргал щекой, закатывал глаза, и — величественно кланялся по окончанию каждого номера.
Мама любила музыку и сама играла на рояле, но этого оказалось недостаточно: я просил, я требовал, я умолял отправить меня в музыкальную школу — всё напрасно.
У тебя нет слуха.
Это у меня-то нет слуха? У меня?
Спой «во саду ли, в огороде»… м-да… ни единой верной ноты.