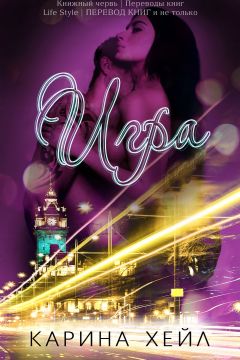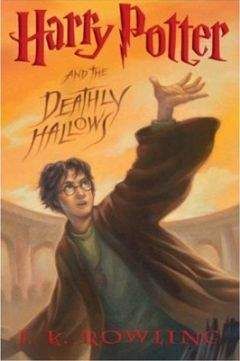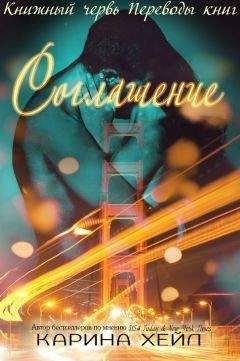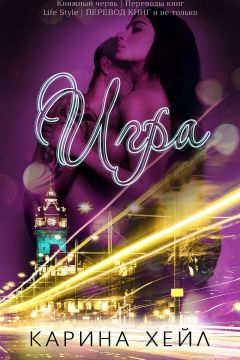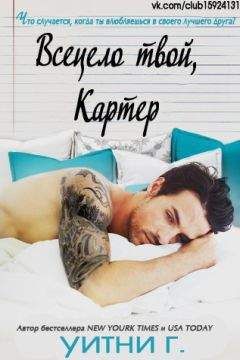— Можно воспользоваться твоим телефоном? — шепчу я.
— Я его забыл, — говорит он.
— Дерьмо, — говорю я. — Мой умер. Вероятно, они беспокоятся обо мне.
— Ты просто ушла?
— Да. Ну, Брэм знает, что я пошла за тобой. Он сказал мне не беспокоиться.
Пауза.
— Понятно.
— Очевидно, что я его не послушала.
Его лицо придвигается ближе к моему, и я чувствую на себе его взгляд.
— А почему?
— Не знаю, я упрямая. — Говорю ему, положив руки на колени. — И я не люблю слушать Брэма.
— Как и я, — осторожно говорит Лаклан. — Так что теперь нас двое.
У меня мурашки бегут по спине.
— И я беспокоилась о тебе.
— Обо мне? — повторяет он. — Почему?
Я пожимаю плечами, задаваясь вопросом, сомневаясь, стоит ли откровенничать.
— Не знаю. Я просто…я хотела убедиться, что ты в порядке.
— Что ж, — спустя минуту говорит он. — Я в порядке.
— Точно? — спрашиваю я. Ожидаю, что ему не понравится то, что я сомневаюсь в нем. Он настоящий мужчина, я не имею права оскорблять его.
Но он просто вздыхает.
— Да. Прямо сейчас я в порядке. Буду чувствовать себя лучше, когда мы заберем этих собак. А завтра, кто знает. Я живу настоящим. Это все, что вы можете сделать.
Что с тобой случилось, хочу спросить я. Что сделало тебя таким?
Могу я это исправить?
— Ты в порядке? — спрашивает он меня.
— Я? Да.
— И по поводу статьи и вообще?
Я вздыхаю и прислоняюсь к дереву. Борюсь с желанием растереть руки сверху донизу, чтобы сохранить тепло. Но даже без моих слов, Лаклан обнимает меня.
— Тебе холодно? — тихо спрашивает он, его дыхание на моей щеке, хватка такая сильная.
— Да, — признаю я. Мой голос вторит его, боясь разрушить чары. — И нет, по поводу статьи не все в порядке. Ничуть.
Я пускаюсь в длинную, бессвязную исповедь о своих несбывшихся надеждах и мечтах, выкладывая все в подробностях, абсолютно без страха, что меня осудят или неправильно поймут. Это освежает.
Когда я заканчиваю свою речь, Лаклан ничего не говорит. Он все еще держит меня в объятиях. Я немного придвигаюсь к нему, вдыхая его перечный, лесной запах, и осторожно кладу руку на живот, двигаясь вдоль талии, пока не обнимаю его. Его пресс твердый и жесткий. Прикусываю губу от желания.
— Так почему бы тебе не найти другую работу? — осторожно спрашивает он. — Делать то, что ты действительно хочешь? Нет смысла тратить свои дни, делая то, что тебя не волнует. Тебе дается лишь одна жизнь. Ну, две жизни. Вторая начинается в тот момент, когда ты осознаешь, что у тебя есть только одна.
Я смотрю на него снизу вверх. Он смотрит вдаль.
— Где ты это услышал?
Он быстро улыбается, подмигивая.
— Думаю, я видел эту фразу, начирканную на двери в ванной. Люди становятся философами, когда идут в сортир.
Я смеюсь.
— Это правда.
— Так почему нет? — Снова спрашивает он.
— Ты настойчив, — говорю я ему, мои пальцы сжимают мягкую ткань его рубашки.
— Все по-честному, — говорит он. — Ты ведь расспрашивала меня. Теперь я могу вернуть должок. Я хочу узнать о тебе больше. — Он говорит последнее слово так, словно оно значит все.
Мое сердце замирает, согреваясь и радуясь.
— Хорошо, — медленно говорю я. — Правда в том, что я боюсь. Боюсь, что брошу что-то надежное, привычное и нормальное, и когда сменю это на что-то другое, то облажаюсь. Понимаешь?
Он кивает.
— Понимаю. Но если не попробуешь…ты можешь представить себе, что проводишь остаток жизни, никогда не познав эту страсть? Это тебя не напрягает? Никогда не узнать, что ты из себя на самом деле представляешь? У тебя без сомнения есть талант. И если ты это знаешь, веришь в это и никогда не поделишься этим открытием с остальным миром…что ж, это просто позор.
У него есть эта необъяснимая способность проникать в душу и понимать, что я чувствую и о чем думаю. Будто я сама не думаю об этом все свое время. Тоска будет сопровождать меня, если я продолжу идти по тому же пути. Шаг за шагом, не оглядываясь, никогда не ища лучший путь.
— Но это не так просто, — говорю ему, крепче держась за его рубашку.
— А что-нибудь когда-нибудь бывает просто?
— Нет, — говорю я. — Просто это…я не хочу, чтоб моя мама беспокоилась обо мне.
— Твоя мама?
Я киваю. Делаю глубокий вдох, призывая силы.
— Да. Ей семьдесят, и она не слишком хорошо себя чувствует. Ей не хорошо с тех пор, как умер мой отец. Это произошло семь лет назад. Я кажется единственная в семье, кто действительно беспокоиться о ней. Забоится. Все мои братья, у них собственные жизни и у большинства есть своя семья. Они просто не обращают на нее внимания. Они все полагают, что я буду всегда заботиться о ней, словно это моя работа. Но это не моя работа. Я делаю это, потому что люблю маму больше всего на свете, и потому что она заботилась о нас. Я делаю это, потому что она заслуживает гораздо большего, чем быть вдовой в том же самом доме, где жила вся семья. — Я прерываю свой сбивчивый рассказ, не забывая дышать. — Она счастлива со мной и той работой, которая у меня есть. Она стабильная. Надежная. Я хочу быть для нее надежной и стабильной, насколько могу. Я не уверена, сколько ей осталось, и мысль о том, что я потеряю ее…это добавляет мне беспокойства. Разрушает меня.
Минуту Лаклан ничего не говорит. Далеко на заднем плане слышен пьяный смех, но он исчезает. И ночь продолжается.
— Похвально, — наконец говорит он. — Кайла, ты хорошая дочь и она это знает. Но я уверен, твоя мать хочет для тебя лучшего. Того, что сделает тебя счастливой.
Чувствую, как вопрос горит на моих губах, и я делаю все возможное, чтобы его удержать.
Но он может почувствовать изменения в моем теле. Наклоняет голову, чтобы посмотреть на меня сверху вниз.
— Что?
— Ничего, — говорю я
— Можешь спросить меня, — уговаривает он.
Сглатываю.
— Ты знаешь свою мать? — тихо, затаив дыхание спрашиваю я, опасаясь, что он может взорваться.
Он смотрит на меня, прямо в глаза, и я смотрю в его, едва различимые в тусклом свете. Он медленно облизывает губы, кивая.
— Моя мать оставила меня, когда мне было пять. Она была моей единственной семьей. Хотелось бы верить, что она хотела для меня лучшего. Не думаю, что она понимала, что этот поступок сдает со мной. Каким я стану.
Каким я стану.
Слова эхом отдаются в моей голове, резким и впечатляющим в этой темноте, в этом уединении.
Кем он стал?
Кто этот человек-зверь, которого я обнимаю.
Я больше всего на свете хочу это выяснить.
Я смотрю на него вверх, желая больше, чем он дал мне. Он смотрит в сторону, хмурясь, словно ему больно, голова свисает вниз.
— Знаешь, я никогда и никому не говорил так много о том, что случилось, — хрипло говорит он, от глубины его голоса кожу на руках покалывает.
Я прикасаюсь пальцами к его коже, смакуя ощущения его близости.
— Спасибо, что рассказал мне. Ни одна живая душа не узнает об этом.
Он медленно поворачивает голову, чтобы посмотреть на меня. Его глаза глубокие, напряженные бассейны, затягивающие меня. Они предлагают утонуть в них, говоря, что я могла бы даже насладиться этим.
Я безнадежна.
Была такой с первой встречи.
— Я знаю, что ты не станешь никому рассказывать, — бормочет он. — Ты не похожа на остальных. Думаю, ты не похожа на всех тех, кого я когда-либо встречал.
Я поднимаю брови.
— Хочешь сказать, у тебя дома нет распутной, незрелой, громкой подружки?
Это шутка, но он не улыбается.
Он кладет руку мне на подбородок, приподнимая голову выше.
— Это не ты. Не то что вижу я.
Я хочу сказать, что так и есть, что все остальные видят меня именно такой.
Но хоть раз в жизни я молчу.
Он проводит пальцем по моей нижней губе.
— Я собираюсь тебя поцеловать, — говорит он.
Господи, это, правда происходит на самом деле? Я этого не переживу.
— Пожалуйста, скажи, что ты не шутишь, — шепчу я.
Его пальцы крепче сжимают мой подбородок, и он опускает свои великолепные губы на мои, на лице все еще хмурое выражение, будто он сам не может в это поверить.
— Никогда не был так серьезен, — говорит он.
Исходя из того, что я знаю о нем, это говорит о многом.
Я закрываю глаза и спустя сладкую, мучительную секунду, его губы встречаются с моими. Мягкие, невыносимо нежные, и я тону в них, падая вниз, все ниже и ниже в кроличью нору.
Поцелуй такой сладкий, медленный и нежный. Это как нежиться на атласных простынях с солнцем, струящемся по вашей коже. Поцелуй такой успокаивающий, но он не делает ничего, чтобы успокоить меня.
Он лишь будоражит этих бабочек. Словно позволяет освободить птиц из клетки. Заставляет мой рот открыться и прижаться к его губам, ненасытно, отчаянно, изголодавшись по всему тому, что он, возможно, может дать мне.
Он отвечает мне тем же. Стонет мне в рот, посылая огонь вниз по моей спине, сжигая дотла мои нервы. Его губы влажные и жаждущие, окутывающие мои с нежностью, дикостью и желанием, которое я могу попробовать.