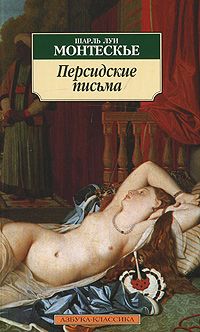ПИСЬМО LXX. Зели к Узбеку в Париж
Твой любимый Сулейман в отчаянии от только что нанесенного ему оскорбления. Некий вертопрах, по имени Суфиз, целые три месяца сватался к его дочери; казалось, юноше нравится наружность девушки, о которой он судил по рассказам и описаниям женщин, знавших ее в детстве; условились насчет приданого, и все шло гладко. Вчера, после совершения первых обрядов, девушка отправилась к нему верхом в сопровождении евнуха и закутанная, по обычаю, с ног до головы. Но едва она подъехала к дому своего нареченного, как последний велел запереть двери и заявил, что ни за что не примет ее, если приданое не будет увеличено. С обеих сторон сбежались родственники, чтобы уладить дело, и после долгих споров Сулейман согласился сделать еще один маленький подарок своему зятю. Брачные обряды были завершены, и девушку почти насильно отвели в постель. Но час спустя вертопрах вскочил в бешенстве, изрезал ей лицо, крича, что она не девственна, и отослал ее обратно к отцу. Это оскорбление совершенно сразило старика. Некоторые уверяют, что девушка невинна. Такие оскорбления — великое несчастье для отцов! Если бы так поступили с моей дочерью, я бы, кажется, умерла от горя. Прощай.
Из сераля Фатимы, месяца Джеммади 1{80}, 9-го дня, 1714 года
ПИСЬМО LXXI. Узбек к Зели
Мне жаль Сулеймана, тем более что беда непоправима и что его зять только воспользовался правом, которое предоставляет ему закон. Я нахожу этот закон, ставящий честь семьи в зависимость от блажи какого-нибудь сумасброда, крайне жестоким. Что бы ни говорили о том, будто существуют определенные признаки, по которым можно узнать правду, наши врачи неопровержимо изобличают недостоверность этих доказательств. Даже христиане считают эти приметы вздорными, хотя они ясно установлены в книгах их древнего законодателя{81}.
Я с удовольствием узнаю о том, с какою заботливостью ты воспитываешь свою дочь. Дай бог, чтобы муж нашел ее столь же прекрасной и чистой, как Фатима; чтобы у нее было десять евнухов для охраны, чтобы она стала честью и украшением сераля, для которого она предназначена; чтобы над головой ее были только раззолоченные потолки; чтобы она ступала только по роскошным коврам! И в довершение всех моих пожеланий да будет мне суждено видеть ее во всем ее величии!
Из Парижа, месяца Шальвала 5-го дня, 1714 года
ПИСЬМО LXXII. Рика к Узбеку в ***
На днях мне довелось быть в обществе, где я встретил на редкость самодовольного человека. В четверть часа он разрешил три вопроса морали, четыре исторических проблемы и пять физических задач. Я никогда не видывал столь разностороннего мастера по части любых вопросов: его ум ни на мгновение не затруднялся какими бы то ни было сомнениями. Перестали говорить о науках и заговорили о текущих новостях: он и тут высказывал безапелляционные суждения. Я хотел его поймать и подумал: «Нужно коснуться того, в чем я всего сильнее, — прибегну к своему отечеству». Я заговорил с ним о Персии, но не успел произнести и нескольких слов, как он дважды меня опроверг, опираясь на авторитет господ Тавернье и Шардена{82}. «Ах ты пропасть! — подумал я, — что же это за человек! Ведь сейчас окажется, что он и улицы испаганские знает лучше моего». Я сразу принял решение: замолчал, предоставив ему разглагольствовать, и он продолжает решать всё сплеча и посейчас.
Из Парижа, месяца Зилькаде 8-го дня, 1715 года
ПИСЬМО LXXIII. Рика к ***
Я слышал о своего рода судилище, именуемом Французской академией. Нет на свете другого учреждения, которое бы так мало уважали: говорят, что едва оно примет какое-нибудь решение, как народ отменяет его, а сам предписывает Академии законы, которые ей приходится соблюдать.
Несколько времени тому назад Академия, ради утверждения своего авторитета, выпустила свод своих постановлений{83}. Это детище столь многих отцов было уже в день своего рождения почти стариком, и, хотя оно являлось законным ребенком, незаконное дитя{84}, появившееся на свет немного раньше, чуть не задушило его.
У тех, кто составляет это учреждение, нет других обязанностей, кроме беспрерывной болтовни; похвала как бы сама собою примешивается к их вечной стрекотне, и как только человека посвятят в тайны Академии, так страсть к панегирикам овладевает им, и притом на всю жизнь.
У этого тела сорок голов{85}, битком набитых иносказаниями, метафорами и антитезами; эти многочисленные уста глаголят почти что одними восклицаниями, а уши хотят упиваться только размеренной речью и гармонией. Что касается глаз, то о них и речи нет: кажется, будто это тело создано только для того, чтобы говорить, а не для того, чтобы видеть Оно отнюдь не твердо на ногах, ибо время — его бич — поминутно сотрясает его до основания и уничтожает все, что оно сделало. Когда-то говорили, что у него руки загребущие. Тут уж я ничего тебе не скажу и предоставлю судить тем, кто знает это лучше меня.
В нашей Персии таких странностей нет, ***. Нашему уму чуждо влечение к столь удивительным и чудным учреждениям: в своих обычаях и наивных нравах мы всегда стремимся к естественности.
Из Парижа, месяца Зильхаже 21-го дня, 1715 года
ПИСЬМО LXXIV. Узбек к Рике в ***
Недавно один знакомый сказал мне: «Я обещал ввести вас в хорошие парижские дома; сегодня я поведу вас к вельможе из числа тех, которые лучше всего представляют наше королевство».
«Что это значит, сударь? Что же, он вежливее, приветливее других?» «Нет», — сказал он. «Ага! Понимаю: он ежеминутно дает окружающим чувствовать свое превосходство. Если это так, мне незачем туда идти: тут я ему целиком уступаю превосходство и примиряюсь с этим».
Пойти все же пришлось, и я увидел щупленького человечка, который был до того надменен, брал понюшку табаку с таким высокомерием, так неумолимо сморкался, так невозмутимо плевал и так оскорбительно для людей ласкал своих собачек, что я просто не мог ему надивиться. «О господи! — подумал я, — если, находясь при персидском дворе, я так представительствовал, я представлял собой изрядного дурака!» Только обладая крайне дурным характером, могли бы мы, Рика, наносить столько мелких оскорблений людям, которые каждый день являлись к нам, чтобы изъявить свое доброжелательство; они прекрасно знали, что мы стоим выше их, а если бы и не знали, им бы ежедневно напоминали об этом наши благодеяния. Нам не было нужды заставлять людей уважать нас, зато мы делали все, чтобы нас уважали; мы входили в общение с самыми незначительными людьми; несмотря на окружавшие нас почести, от которых люди всегда черствеют, мы проявляли к ним сочувствие; только сердцем мы стояли выше их: мы снисходили к их нуждам. Но когда надо было поддерживать величие государя во время торжественных церемоний, когда приходилось внушать иностранцам уважение к нашей нации, когда, наконец, в опасных обстоятельствах приходилось воодушевлять солдат, мы умели подниматься на высоту, в сотни раз большую той, с какой мы спускались; мы умели тогда принимать гордое выражение лица, и иной раз окружающие находили, что мы достаточно представительны.
Из Парижа, месяца Сафара 10-го дня, 1715 года
ПИСЬМО LXXV. Узбек к Реди в Венецию
Должен тебе признаться, что я не замечал у христиан тех живых религиозных убеждений, какие находишь у магометан. У христиан большое расстояние от исповедования веры до подлинных верований, от этих последних до убежденности и от убежденности — до исполнения религиозных обрядов. У них религия служит не столько предметом священного почитания, сколько предметом споров, доступных всем и каждому: придворные, военные, даже женщины восстают против духовенства и требуют от него, чтобы оно доказало им то, во что они заранее решили не верить. Не то, чтобы разум привел их к этому и чтобы они взяли на себя труд исследовать истинность или ложность отвергаемой ими религии: это просто-напросто бунтовщики, которые почувствовали ярмо и решили стряхнуть его с себя еще прежде, чем с ним познакомились. Поэтому они столь же нетверды в своем неверии, как и в вере; они живут приливами и отливами, беспрестанно увлекающими их от одного состояния к другому. Кто-то сказал мне однажды: «Я верю в бессмертие души по полугодиям; мои убеждения зависят исключительно от самочувствия: в зависимости от того, много ли во мне жизненных соков, хорошо или плохо переваривает желудок, дышу ли я легким или тяжелым воздухом, питаюсь ли удобоваримым или тяжелым мясом, я бываю спинозистом, социнианином{86}, католиком, безбожником или верующим. Когда у моей постели сидит врач, духовник всегда найдет меня в наилучшем для него душевном состоянии. Когда я здоров, то прекрасно сопротивляюсь гнету религии, зато я позволяю ей утешать меня, как только захвораю. Если мне уже больше не на что надеяться от другой стороны, является религия и завладевает мною с помощью своих обещаний; я охотно им поддаюсь, чтобы умереть в стане тех, кто сулит мне надежду».