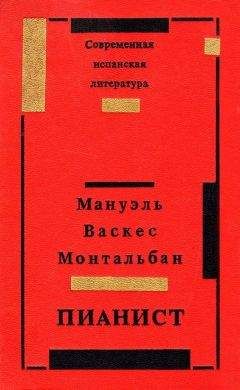На церкви Кармен зазвонили колокола, словно возвещая приход ночи, но в сумерках еще видны были очертания фигур. Пес благодарно обнюхивал кусочек засахаренной тыквы, который мальчик положил к его носу.
– Не хочешь есть?
Псу есть хотелось, но только не засахаренную тыкву, а мальчик решил, что его собака вроде тех барчуков, о которых ему рассказывала мать: все-то у них есть, ничего им не хочется.
– Войны на тебя не было, – сказал мальчик псу, а тот лизнул его длинным языком, чтобы задобрить.
– Вот посидел бы в концлагере, знал бы тогда, что хорошо, а что плохо, и ел бы все подряд.
Похожая на мятую куклу с седыми волосами, на террасу вышла сеньора Асунсьон, она явилась за сыном.
– Маноло. Мой Маноло тут?
– Я здесь, мама.
Юнг ответил нехотя, не переставая боксировать с воздухом и словно не замечая мать.
– Отец ждет тебя около Антика, пойди помоги ему распродать.
– Он мне ничего не говорил.
– Значит, он просто хочет видеть тебя.
Задрав острый подбородок кверху, сеньора Асунсьон подошла вплотную к не обращавшему на нее внимания боксеру и замолотила кулачками в его грудь.
– На тебе бокс, на тебе.
– Мама.
Юнг попробовал восстановить дистанцию с драчливой мамашей, но сеньора Асунсьон не отставала и остановилась, лишь когда заметила, что на террасе кроме них много народу, к тому же в дверях показался ее муж, заросший многодневной щетиной и в очках, стекла которых разбились два года назад; руками он подпирал натруженную поясницу.
– Он говорит, ты ничего не сказал ему насчет газет.
– Если он так говорит…
Сеньор Энрике отошел в угол террасы, вынул платок из кармана вельветового пиджака, постелил на пол и, сев на него, уставился на носки своих плетенных из дрока альпаргат, завязанных тесемками у щиколоток. Ему самому жаль было этих ног, этих словно отдельно от него живущих несчастных существ, обутых в альпаргаты и в носки, он ничем не мог помочь им, а только гонял изо дня в день по улицам города: «Пренса», «Сьеро», на горбу тюк с газетами, а в городе никто не хочет читать газет, особенно в этих кварталах – Ронда-де-Сан-Антонио, Сан-Пабло, Хоакин Коста, улица Кармен, площадь Падро, улицы Ботелья, Сера, площадь Рейна-Амалия, площадь-пустырь, где прежде была старинная женская тюрьма, а ныне – развалины, в которых приютилась подпольная рулетка, продавец табака, потрошивший свой товар из подобранных окурков, крикливые уличные торговцы, предлагавшие бритвенные лезвия «Иберия», карандаши «Термосан», мазь «Слоан», одеколон для ращения волос, притиранье против перхоти и скверного воскового запаха от волос; один торговец даже якобы умел глотать огонь, и ничего ему не делалось, а все благодаря таблеткам, таблеткам из розового корня, из корня тех роз, что зовутся Александрийскими. Чистильщики ботинок, продажные мужчины – любители без документов, но зато с женской продуктовой корзиной; лудильщики, продавцы воздуха и певички со стопкой песенников – зеленых, сиреневых, желтых – в руке и невинным обманом на устах, который слагался в вирши:
От Пуэнте-Хениль до Лусены,
от Лохи до Бенамехй,
от Пуэнте-Хениль до Лусены,
от Лохи до Бенамехй
все девушки Сьерра-Морены
о тебе лишь тоскуют
и мрут от любви.
Все они были соперниками и конкурентами Асунсьон, продавщицы газет, и сеньор Энрике, ее муж, молчаливый человек, который воспринимал этот повседневно окружающий его уличный рынок как среду враждебную, вышагивал по нему из конца в конец и выкрикивал названия газет как сигнал тревоги, услыхав который все должны были расступиться.
– «Пренса»! «Сьеро»!
Юнг утверждал, что утренние газеты выкрикивать легче, и в подтверждение приводил слова отца:
– По утрам легко: только «Соли», а попробуй-ка покричи «Вангуардиа» или «Коррео Каталан». Не кричится, и все тут. А уж «Диарио де Барселона» – и вовсе язык заплетается.
– Беднягу ты совсем забросил.
Асунсьон с упреком кивнула на Томи, который радостно скакал вокруг них.
– Скормил ему солянку, которую я оставляла для него?
– Солянку – собаке, сеньора Асунсьон? – Старик Бакеро спросил и проглотил слюну.
– Самая дешевая еда.
– Солянка с чесноком, с уксусом, с оливковым маслом, как вкусно.
– Я согласна. А чем бедное животное кормить?
– Солянку – собаке…
Бакеро забормотал что-то, враждебно поглядывая на пса, который заметался между хозяйкой и дверью, словно приглашал ее пойти вместе с ним и поискать еду.
– Он маленький и ест мало. Тот красавец, что был у нас раньше, Циклон, тот уж ел так ел, бедняга, а что я могла ему дать, только война кончилась. Помните Циклона?
Сеньора Асунсьон задала вопрос, ни к кому не обращаясь, и глаза ее налились слезами.
– Такого ласкового животного я не встречала больше. Всю войну у нас прожил, я его сберегла – и не украли его, и не съели его у меня, – и все равно от лихого человека пострадал – отравили собаку. Вон там, там я нашла его мертвым, за водосборником. Поди узнай, зачем он туда заполз. Может, желудок жгло, вот и искал прохлады. Пусть у того, кто его отравил, все кишки сгниют, а кровь в дерьмо превратится.
Хрупкое тельце сеньоры Асунсьон выплеснуло столько ненависти, что она мрачной тучей повисла над террасой.
– Что пишут вечерние газеты, дон Энрике?
– Как всегда. Ничего.
– Что-нибудь говорят о Миракле?
– О нем – ни слова. Но пишут об арестах в связи с грабежами и террористическими актами.
– Грабежи и террористические акты, – кивнул Андрес Кинтане.
– Я никогда не читаю газет, – сказал дон Энрике. – Такое было с мясником в нашем селе, он никогда не ел мяса. Не читаю, но в баре, я зашел туда пропустить стаканчик, слыхал разговоры про маки.
– В их руках часть Пиренеев. Они – везде. И в Астурии. И в Леоне. Даже до Валенсии добрались.
– Возвращались бы откуда пришли, пока их всех, бедняг, не поубивали.
Сеньора Асунсьон промакнула полой куртки глаз.
– Ведь ничего не добьются. Только хуже станет. Ненависть и злость разожгут.
– Мне рассказали историю про Массану, в Берге было дело, и нам парочку таких, вроде Массаны, иметь не помешало бы.
Кинтана постоянно снабжал их историями про маки, и никто не спрашивал, откуда он их берет. Андрес и Росель подошли к нему поближе, а Кинтана уже смеялся, предвкушая, какую занятную вещь он им сейчас расскажет.
– В семь часов вечера жандармский лейтенант пил пиво или еще что-то в баре на самой людной улице в Берге, и вдруг откуда ни возьмись – Массана с еще четырьмя или пятью своими, прохаживаются по улице, туда-сюда, будто проветриться вышли. Все в баре смотрят на лейтенанта, что он станет делать, а тому будто и невдомек, что к чему. Наконец сержант, или капрал, или кто-то еще дернул его за рукав: лейтенант, лейтенант, Массана тут. Что еще за Массана? Партизан по имени Массана. Поглядите. Вон он. Точь-в-точь как на фотографии, у нас в казарме висит. Лейтенант краем глаза глянул на Массану и его людей, накинулся на сержанта: это – Массана? Подите, пусть вам зрение подправят. Да он похож на Массану, как я на Фридриха Мариа. А это был Массана!
Все засмеялись или заулыбались, все, кроме сеньоры Асунсьон, которая напала на Кинтану:
– А что ему было делать, этому лейтенанту? Убить того? Доброе сердце у него, вот он и решил, лучше сделать вид, что не понял. Глаза не видят – сердце не болит.
– При чем тут доброе сердце, просто испугался шума.
– Пускай испугался шума. Зато сам никого не убил, и его не убили. Побольше бы такого страху в мире, глядишь, и мир стал бы лучше.
– Кинтана, расскажи про чахоточную.
– Я же рассказывал в прошлый раз.
– А сеньор Росель не слышал.
– Расскажи. Расскажи. Это ведь про ветчину? – не отставал старик Бакеро и глотал слюну – видно, голод не унимался.
– Да, и про ветчину. Так вот, шли партизаны по горам. Одни говорят, это был отряд Массаны, другие, что это случилось в долине Арана, в зоне, которую контролируют коммунисты. Одним словом, в горах было дело, и остановились они в доме каталонского крестьянина. Хозяин дома пользовался дурной славой, поговаривали, что он был стукачом у жандармов, вот он и понял, что эти пустят его в расход.
Кинтана заговорил тише, чтобы слова его не достигли ушей шпионов, прячущихся в ночи, и слушателям пришлось потеснее сбиться вокруг него.
– Крестьянин, как увидел партизан, сразу в слезы. И что, мол, они бедные и что, мол, жандармы с них глаз не спускают, грозятся в тюрьму запрятать, если станет маки помогать. А если меня убьют, что станется с моей семьей? Сын у меня парализованный, в поле работать не может, а дочка чахоточная. Ну-ка, хочу поглядеть на чахоточную, сказал Массана или кто был у них командир, для нашей истории не имеет значения. Крестьянин с женой, еле живые от страха, повели его в комнату, где дочка лежала в постели. Тогда командир маки говорит одному из отряда: ты – врач, давай-ка осмотри ее в присутствии матери. Все удаляются из комнаты, и через некоторое время партизан-врач выходит и говорит: да, у нее действительно туберкулез, каверны огромные, как пещеры Драк.[49]