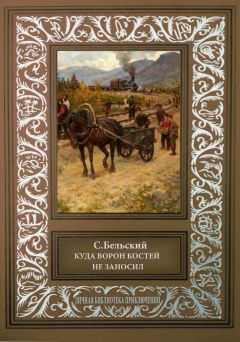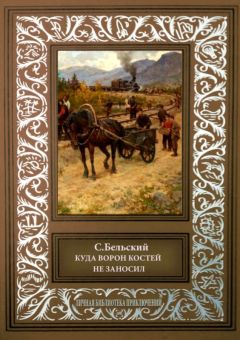Рабочие жили под открытым небом и в шалашах, похожих на большие костры. Инженер Фомичев, его помощник Глебов и студент-путеец Тихонов спали в палатках, а днем, когда не было работы, сидели или лежали на истрёпанном ковре под тяжелыми узорчатыми ветвями, через которые просачивались золотые струи солнечного света.
От того, что дорога никому не была нужна и с каждым поворотом все глубже и глубже уходила в сумрачный, тоскливый лес, которому не было конца, все работали неохотно. До станции было сорок верст, хлеба часто не хватало и люди по целым дням питались ягодами, сухарями, пили ржавую воду из болота, болели лихорадками и тифом, и разбегались каждую субботу после получки денег.
Выбирать было не из кого, и Фомичев принимал всех, кто приходил к нему в тайгу. Больше всего было переселенцев, забросивших свои участки, чтобы не умереть с голоду. Но приходили и старатели с золотых приисков, бродяги, беглые, какие-то „божий люди", ожидавшие пришествия Антихриста, преступники, скрывавшиеся в тайге от суда, пропойцы, охотники и беглые солдаты.
Главный инженер боялся этой пестрой толпы, в которой почти каждый человек приносил воспоминание о грабежах, убийствах, каторжных тюрьмах, о бесконечных голодных скитаниях и смутное сознание о жестокости и несправедливости того порядка, который выбросил его из далекой родины и властвовал за пределами зеленой пустыни.
Фомичев каждую субботу говорил рабочим, что денег у него нет, и если его убьют, то не отыщут и трех рублей. Рабочие знали, что их боятся, и с снисходительным презрением смотрели на свое начальство.
Бродяга Гудок, лохматый и шершавый, как опаленный пожаром куст можжевельника, и чахоточный беглый солдат, Гомулин, которого рабочие звали „Дохлым", а инженеры „разбойником в квадрате", потешались над страхом Фомичева и разыгрывали целые комедии, при немом сочувствии сотни зрителей.
Во время обеденного перерыва, Гудок садился на кургане, вынимал из порыжевшего голенища длинный нож, и начинал точить его о камень.
— Ты что делаешь?— спрашивал его солдат.— Доиграешься когда-нибудь.
— Отстань!— надоело землю рыть.— Сладкой пищи захотел!
— Дурак!— из-за трех рублей человека погубишь!
— И три рубля деньги, и за три копейки режут.
— Говори прямо; крови захотел. Мало тебя в тюрьмах гноили.
— Уходи! какой святой объявился; я то знаю, зачем ты
136 ночью вокруг палаток ходишь.
Фомичев слышал весь разговор, но делал вид, что не замечает
Гудка, который пробовал на пальце блестящее лезвие отточенного ножа, и приказывал китайцу принести револьвер.
Инженер не умел стрелять и револьвер не был заряжен, но
Фомичев долго и внимательно рассматривал гранёный ствол, прицеливался в деревья и громко говорил Глебову, так, чтобы слышали рабочие:
— Двенадцать зарядов,— двенадцать человек! Я гимназистом на пятьдесят шагов в туза попадал, гвозди пулями вбивал!
Гудок смеялся и рассказывал, ни к кому не обращаясь, длинную историю о том, как он где-то на Волге голыми руками убил и ограбил барина— охотника.
— Птицу без промаха влет бил, а в человека стрелять не мог; поднимет ружье и опустит, руки дрожат и голос перехватывается,— ва, ва, ва!.. я стоял с ножиком около камыша и смеялся. Целься, говорю, лучше! В последний раз охотишься!
Потом подошел, так, не торопясь; взял барина за глотку, голову поднял и полоснул ножом.
И нельзя было разобрать, правду говорит или врет Гудок.
Фомичев смотрел на сумрачную тайгу, которая без конца нашептывала темные преступные мысли, уходил в палатку, садился на жёсткую кровать, пил коньяк и при свете оплывшей свечи, невольно представлял себе, как войдет Гудок или еще кто-нибудь, ну, хотя бы этот „разбойник в квадрате" нащупает впотьмах его длинную худую шею, сдавит ее железными пальцами и засмеется. Непременно засмеется! Этот противный смех будет последним, что услышит он, Фомичев, а утром его тело с лицом, облепленным комарами, будет лежать на кровати посредине палатки, и рабочий. Яшка „Божий человек", гнусавым голосом, по складам, будет читать над ним псалтырь, закапанную воском, с грязными обмусоленными страницами.
Вечером, когда осторожно подкрадывалась тьма, инженер выходил из палатки и деланно спокойным голосом звал Гудка.
Бродяга живо и даже весело откликался. Его лицо, густо заросшее черной свалявшейся бородой, ласково улыбалось, серые глаза смотрели лукаво и притворно строго.
— Слушай, Гудок — говорил инженер, вздрагивая от вечернего холода и смотря в сторону.— Ты хороший работник, усердный работник! Я думаю, недели через две, выдать тебе награду.
— Много благодарны!
— Ну там рублей двадцать, тридцать! А сейчас подарю тебе старые сапоги. Хороший ты человек. Весёлый, трезвый!
— Лучше меня во всей тайге не сыщете!
Бродяга брал под мышки сапоги и приплясывая с шутовскими ужимками, с которыми он работал, молился, шатался по таежным дорогам, пьянство вал и дрался, шел в свою нору, между ветвями поваленной сосны.
Ночью, когда тайга сдвигалась, исчезали отдельные деревья и дикий лес превращался в одно существо, рабочие шепотом рассказывали друг другу о своей прошлой жизни, и хотя они собрались со всех концов России, казалось, будто рассказывает все один человек, без конца повторяющий длинную скучную историю о нужде, голоде, пьянстве, тюрьмах и бесконечных голодных скитаниях. Была одна общая повесть и всем она надоела, как осенняя ночь.
Слушатели оживлялись только тогда, когда кто-нибудь начинал вслух мечтать; впутывал в сухие жёсткие нити того, что было, яркие узоры вымысла; и чем неожиданнее и невероятнее был вымысел, тем больше внимания и одобрения вызывал он у слушателей.
— Беглый каторжник, Лямка, рассказывал о шапке невидимке, в которой он ходил по Петербургу.
— Бойкий человек, Яков, нараспев врал о своем странствовании под землей, из Иерусалима к Арарату.— Иду с белой котомочкой, сверху золотой песок сыплется, по сторонам восковые тоненькие свечи горят и ангелы белыми крылами помахивают...
Горбач, (рабочий с золотых приисков), Крот искал золото на далеком севере и зашел в долину, „где не было воздуха и в два ряда каменные люди стояли". Среди долины кучами лежало золото, как кирпичи на постройке, но когда Крот начал собирать рассыпанное богатство, каменные люди сдвинулись со своих мест и окружили его плотной стеной.
Поляк со странным прозвищем—Картомастный, с увлечением и мельчайшими подробностями рассказывал, как он в одну ночь прогулял пятьдесят тысяч! Ночь эта тянулась без конца. В течении её рассказчик успел побывать: в Варшаве, Ломже, во Владивостоке, но точной географии никто и не требовал.
— Самое важное, что маленький тщедушный Картомастный, похожий на сонного пескаря, силой каких-то чар выгонял из гостиниц всех посетителей—генералов, купцов, дворян; что за
Картомастным от Варшавы до Ломжи и еще дальше, до самой Немецкой границы, шли музыканты в три ряда и играли так громко, что помещики выходили встречать его в новых жупанах, с серебряными блюдами в руках, а паненки целовали его, как они хотел.
Кержак (раскольник) из Томской губернии, черный и тусклый, как завалявшаяся древняя икона, рассказывал о каком то ските златоглавом, за лесами Нарымскими, за болотами, где в омутах не вода, а стоят острые глубокие тени. И в тех скитах ходят белые старцы под деревьями. Каждому дереву тысяча лет и каждому старцу тысяча с годом.
Еврей Прончик, — бежавший из пересыльной тюрьмы, читал письма от брата из Америки, которые он сам писал на обрывках бумаги, подобранных в палатке инженера. Брат звал его к себе в
Нью-Йорк, „где человек с хорошей фантазией в один день может заработать столько денег, что их ни один банк не возьмет на сохранение".
Все отлично знали, что рассказчики лгут; что не было ни скита с тысячелетними старцами, ни золотой горы; знали, что Прончик сам пишет письма из Америки. Даже поощряли рассказчиков возгласами:
— А ну ври! ври еще!— Но слушали внимательно, сосредоточенно и сердились, когда кто-нибудь смеялся над
Кержаком, Лямкой или поляком, уличая их в том, что они каждую ночь рассказывают свою историю по новому.
Отвратительная, подлая и жестокая правда, вся в грязи, крови и слезах, была им ненавистна, и когда они возвращались к своей настоящей повести, в которую каждый вставлял кусок, как в одну цельную стену, и все куски были скреплены общим цементом, рабочим казалось, что их жизнь так же никому не нужна, так же плутает и без толку тянется в дремучей постылой тайге, как та белая дорога, которую они протащили неизвестно зачем через болота, овраги, безвестные реки и горбатые холмы.
Фомичеву Сиганов не понравился.
— Хулиган какой-то,— говорил он Глебову.
— Надо сказать китайцу, чтобы он за ним присматривал. Ни на одного человека положиться нельзя! Удивительно, куда девался добрый, незлобивый русский мужик... Гордости нет, воли нет! Пропало уважение ко всему, что выше. Вы думаете, они меня и вас уважают.— Ни в грош не ставят! Я ценю в человеке/ упорство в труде, внутреннюю дисциплину, но в нашей шайке ничего этого нет! Гнилые души!