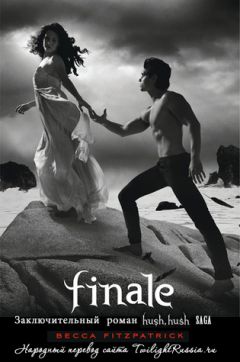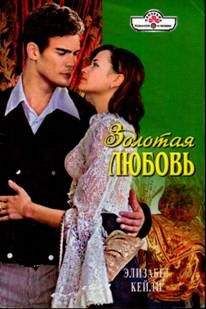Ну, теперь все в порядке. Конрой издает отчаянный рев, ноги его взвиваются в воздух, и он выпускает меня. Он стоит на коленях, держась обеими руками за низ живота, и причитает: «Что же теперь будет? Что же теперь со мной будет?»
Все помирают со смеху — кроме меня. А я смотрю на Конроя и пытаюсь сообразить, неужели я ему действительно что-то повредил; я ведь совсем этого не хотел и думал, что укусил его в ляжку, да только он видно, повернулся.
Дверь распахивается, в зал входит Хэссоп. И замирает при виде Конроя, который все еще стоит на коленях, держась за низ живота, и стонет. Я поднимаюсь на ноги, а все вокруг покатываются со смеху. Но конечно, смех разом смолкает, как только они видят Хэссопа, а он смотрит на Конроя, который теперь вроде бы стоит перед ним на коленях и молит его о чем-то.
— Что тут происходит? — спрашивает Хэссоп. Конрой поднимает на него глаза и тут же отводит взгляд, не произнеся ни слова. — Вы что, дрались, Браун? — спрашивает Хэссоп уже у меня.
— Просто немного валяли дурака, мистер Хэссоп, — говорю я.
Отряхиваюсь, а сам наблюдаю за ним — он стоит, весь белый: должно быть, подбирает слова, чтобы как следует на нас наорать. Но не орет. Нервный тик пробегает у него по лицу, и он говорит:
— Ну, здесь для этого не место и не время. Займитесь-ка делом, и чтоб больше этого не было.
И он удаляется к себе в кабинетик, а Конрой встает, идет к своей доске, взбирается на табурет и застывает, опустив голову на руки. Я с минуту смотрю на него, потом подхожу:
— Слушай, у тебя все в порядке, Конрой? — спрашиваю я.
— Проваливай, — рычит Конрой, не поднимая головы.
Я возвращаюсь к себе и принимаюсь за работу. Но время от времени все же поглядываю на него: а вдруг я и в самом деле что-нибудь ему повредил. Правое ухо у меня саднит потом весь день.
Если мы думали, что все на этом и кончилось, то глубоко ошибались. На другое утро Хэссоп останавливается против Конроя и говорит:
— Мистер Олторп хочет видеть вас, Конрой. И вас, Браун.
Конрой поднимает свою большую голову, долго смотрит в упор на Хэссопа, потом слезает с табурета и шагает к двери. Я — за ним.
— Ты, конечно, понимаешь, что это значит? — опрашивает он, когда мы выходим в коридор. — Наш друг Хэссоп снова занимался доносами. У него не хватает духу самому нас взгреть, так он передает эту грязную работенку Олторпу.
— А что мы ему скажем? — спрашиваю я. Удастся ли нам наскоро придумать что-либо пристойное?
— Можешь не волноваться, — говорит Конрой. — Я немного знаю Олторпа: он нам даже слова вставить не даст.
Останавливаемся перед массивной дверью, на которой золотыми буквами выведено: «Главный инженер».
— За этим порогом, — говорит Конрой, — владычествуют две тысячи в год... Пошли.
Он стучит в дверь и прикладывает к ней ухо. Какая-то машинисточка трусит мимо и оглядывает нас с головы до ног. Я подмигиваю ей, хотя настроение у меня сейчас далеко не такое, чтобы подмигивать. Из кабинета доносится громкий возглас, Конрой поворачивает ручку, и мы входим.
Мистер Олторп — крупный мужчина с гладко зачесанными седыми волосами, они блестят при свете, падающем из большого окна за его письменным столом. Он кончает диктовать. Отпускает стенографистку, и она, подхватив свои карандаши и блокнот, проходит по ковру к двери в соседнюю комнату. Мистер Олторп достаёт сигарету из пачки «Плейерс», лежащей на столе, и закуривает. Еще только одиннадцать часов, а большая пепельница уже полна окурков и обгоревших спичек. Он жестом велит нам подойти поближе, снимает большие очки, кладет их на стол и смотрит на нас так пристально, что я теряю всякое присутствие духа.
— Послушайте, вы двое, — говорит он наконец. — Я слышал, вы на работе играли в чехарду. А потом катались по полу и тузили друг друга?
Наверно, нам надо что-то сказать, но я предоставляю это Конрою, а он молчит как немой, и я устремляю взгляд в окно, за спиной мистера Олторпа, и наблюдаю за ярко-желтым грузовиком, который свалил груз и, задрав вверх рогатины разгрузочной лебедки, похожие на огромные ноги циркового клоуна, едет по двору.
— Чтоб этого больше не было, ясно? — заявляет мистер Олторп и изо всей силы ударяет ладонью по столу, так что я подпрыгиваю на целый фут. — Если у вас возникают споры и вы хотите решать их таким путем, будьте любезны делать это за пределами нашего бюро. Здесь я этого терпеть не намерен. Вы приходите сюда работать; так и занимайтесь делом. За это вам платят деньги, а если вас это не устраивает, забирайте свои вещички и мотайте в другое место. Я не желаю, чтобы мое бюро превращалось в обезьяний питомник. Если бы я в молодости вел себя так, меня безо всяких предупреждений выставили бы на улицу. Но в те времена мы ценили свою работу — тогда получить место было не так-то просто.
Теперь я смотрю на галстук мистера Олторпа — аккуратно повязанный, синий в белый горошек. Интересно, буду ли я когда-нибудь сидеть за большим столом, получать две тысячи в год и отчитывать двух парней за драку на работе. Я вспоминаю потом, что в ту минуту ничуть не дрожал за свое место.
— Вы-то уж достаточно взрослый, — говорит тем временем Олторп, обращаясь уже только к Конрою. — Вам, во всяком случае, можно было бы и не разъяснять всего этого, и вы, старшие, должны были бы подавать пример таким, как Браун. У меня нет жалоб на вашу работу, Конрой. У вас хороший технический ум, и мы всегда возлагали большие надежды на ваши способности. Так что пора бы вам повзрослеть.
Он переводит взгляд на меня, и я чувствую себя как бабочка, которую накололи на булавку и пришпилили к стенке.
— А вот о вас, Браун, я не могу того же сказать, — говорит он. — Последнее время мистер Хэссоп не очень доволен вашей работой. Когда вы поступили к нам, вы казались многообещающим парнем, но сейчас не стараетесь зарекомендовать себя с лучшей стороны. В чем дело? Или может быть, ваши мысли заняты какой-нибудь девчонкой, а не тем, что лежит у вас на чертежной доске?!
Я краснею и открываю было рот, чтобы ему ответить, но тут же закрываю его, потому что он не дает мне слова вымолвить.
— Наведите-ка порядок в своих мыслях и займитесь делом, если хотите работать у нас. — Тут он берет очки и надевает их. — Я не знаю, из-за чего произошла эта драка, и не желаю знать. Но чтобы больше я об этом не слышал.
Он упирается взглядом в бумаги, и я понимаю, что разговор окончен. Однако едва я успеваю подумать, что все сошло благополучно и надо поскорее убираться отсюда, как старина Конрой, который до сих пор молчал, словно воды в рот набрав, произносит нечто такое, отчего холодок бежит у меня по спине, а мистер Олторп снова снимает очки.
— Что такое? — спрашивает он.
— Я сказал, что не понимаю, почему вокруг этого подняли такой шум, — говорит Конрой. — Подумаешь, люди поспорили у себя в бюро! Разве нельзя было и разобрать это в бюро, а не выносить сюда?
Собственно, это все равно, что назвать Хэссопа наушником... Я вижу, как лицо мистера Олторпа наливается краской и глаза вылезают из орбит; он швыряет на стол очки и встает, опираясь на руки.
— Вы, что, решили учить меня, как мне обращаться со своими служащими, Конрой?! — говорит он. И начинает все сначала и говорит все то, что уже сказал, и даже куда больше, только на этот раз сдабривает это такими словцами, что я то и дело отвожу глаза и жалею, что не могу провалиться сквозь землю, до того мне неловко. Слышать эти слова от него мне так же неприятно, как если бы на его месте был наш Старик. Может, он думает, что другого языка мы не понимаем, но мне кажется, что человек, занимающий такое положение, как мистер Олторп, не должен так выражаться, и я знаю, что никогда больше не смогу относиться к нему с прежним уважением. В какую-то минуту я бросаю украдкой взгляд на Конроя и вижу, что он стоит, поджав губы, и все, что говорит Олторп, для него пустой звук.
— А теперь убирайтесь, — говорит Олторп, — пошли вон оба.
Он опускается в свое кресло и снова протягивает руку к очкам.
Когда мы выходим в коридор, Конрой бранится на чем свет стоит. Он чуть на стену не лезет от ярости. Что же до меня, то я дрожу с головы до пят, и сердце у меня бешено колотится.
— О господи, — говорю я, — мне хотелось провалиться сквозь землю, когда он начал садить непечатными.
— Грамотный малый, ничего не скажешь! — замечает Конрой. — Надо отдать ему справедливость: не боится крепкого словца и не стесняется говорить, что думает.
— Знаешь, я считаю, что это все из-за меня: ведь это я тебя поддел.
— Нет, виной всему Хэссоп. Так бы и вышиб все его желтые зубы! Доносчик, гадина!
Я смотрю на Конроя, и — вот уж чего бы никогда не подумал — он начинает мне даже нравиться. Я знаю, что никогда не забуду, как он держался перед Олторпом.
— Ты уж извини меня, Конрой, за то, что я тебя укусил, — говорю я ему, — но больно крепко ты меня колошматил.