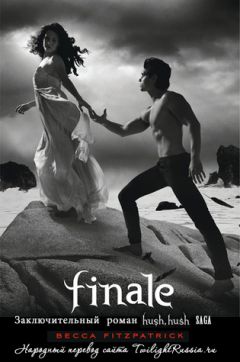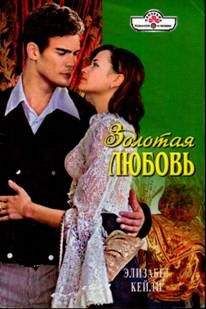Тут я замечаю коренастого человечка, который берет кружку пива у стойки и смотрит на Старика. Потом, держа в руке кружку, приближается к нам и хлопает Старика по плечу.
— Как дела, Артур? Как поживаешь, друг?
Наш Старик поднимает голову.
— Никак это Герберт! Э-э, давненько не видал тебя, друг. Присаживайся, присаживайся.
Человечек придвигает табурет и садится. Одет он очень прилично — серое твидовое пальто, зеленая фетровая шляпа, но, даже будь у него лицо не синеватого цвета, я сразу угадал бы его профессию.
— Ты ведь не знаком с моим сыном, Герберт? — спрашивает Старик. — Это мой старший. Другой еще в школу ходит, а этот — Вик — работает чертежником у Уиттейкера. — В голосе Старика звучит нотка гордости, и это удивляет меня, потому что мне никогда и в голову не приходило, что он может гордиться мной. Кристиной и Джимом — другое дело, но мной — никогда.
— Ей-богу? — говорит человечек. — Чертежником? Это получше, чем торчать в забое, а?
— Совершенно верно, — говорю я.
— Я всегда говорил, что моим сыновьям не придется спускаться в шахту, как мне, — заявляет Старик.
— Для молодежи сейчас золотое время, Артур, — говорит человечек. — Не то, что в дни нашей молодости. Тогда и выбора другого не было: либо иди в забой, либо на завод. И отцы наши только рады были послать нас под землю, чтобы мы принесли хоть немного деньжат. А мой парень, знаешь, работает сейчас в угольном управлении. И всегда ворчит, что меньше меня получает. Я говорю ему, что он сам не знает, под какой счастливой звездой родился. Да чтоб работать с девяти утра и видеть дневной свет в окошке, за это хватило бы и трех монет в неделю. На моем месте он бы через шесть дней окачурился. А то и меньше.
Он поднимает кружку и осушает ее до половины. Я смотрю, как уменьшается жидкость, и понимаю, что этот дядя выпить любит. И, словно прочитав мои мысли, он говорит:
— Прямо не знаю, что бы я делал без пива, Артур. Иной раз так думаю, что только пиво еще и держит меня. — Он достает пачку «Вудбайнз» и протягивает нам. — Им бы следовало выдавать нам пиво бесплатно, как уголь, — говорит он и смеется.
— Где же ты теперь работаешь, Герберт? — спрашивает его Старик, после того как мы все трое закуриваем.
— Да последние три года работаю у Раундвуда, днем, нагружаю вагонетки.
— У Раундвуда — это в Уэйкфилде? — говорит Старик. — Путь-то неблизкий, а?
— Да у меня есть машина, — говорит человечек. — Я уже давно не езжу на автобусах. Весь путь от дома до работы — двадцать минут.
— Барином стал, а, Герберт?
— А почему бы и нет? — говорит Герберт. — Никогда мы столько не заколачивали, как в последние десять лет, Артур, ну я и стараюсь, пока можно.
— Что значит — пока можно? Ты что, думаешь, опять будет кризис?
— Не может же всегда так быть, — говорит человечек. — Слишком много я знавал плохих времен, чтобы думать, будто так может без конца продолжаться.
— Ну, не знаю, Герберт. Я, к примеру, не вижу, почему бы так не могло продолжаться.
— Да ведь странные вещи бывают, Артур, вроде бы людям всегда нужен уголь. И наверно, еще долго будет нужен. Но оба мы с тобой знаем: было время, когда у людей в очагах было пусто, а уголь горами лежал на шахтных дворах. Все дело в экономике, Артур, а мы с тобой ничего в этом не смыслим. Мы с тобой умеем только вырубать уголь, если нас к нему подпускают...
Я сижу и слушаю их беседу. От добычи угля и экономики они переходят к политике. Оба они, конечно, лейбористы, так что спорить им особенно не о чей. Тогда они переходят к спорту и обсуждению Хаддерсфилдских городов, тут у них по двум или трем вопросам возникают разногласия, но они разрешают их вполне дружелюбно. Тем временем человечек берет себе еще кружку и наполняет наши тоже. Потом Старик угощает его, и мы, конечно, тоже пьем. Хорошо, что мы пьем черное пиво, думаю я: к тому времени, когда стрелки часов показывают без двадцати десять, мы выпили уже по пять кружек, а человечек приканчивает четвертую.
— Ты только посмотри, который час! — восклицает вдруг Старик. — Живо домой!
— Что-то больно долго у вас сегодня кровь брали, — говорит Старушенция при виде нас. В доме приятно, тепло, пахнет свежеглаженым бельем.
— Угу, — говорит Старик, и, услышав это, Старушенция окидывает нас взглядом.
— Понятно, — говорит она. — Вот, значит, где вы торчали.
— Да, нам захотелось выпить по кружечке, — говорит Старик, снимая пиджак. От пива глаза у него поблескивают, а наша Старушенция ни в жизни не допустит, чтобы кто-нибудь над ней смеялся.
— Значит, вот по каким местам ты решил таскать Виктора! — говорит она. — Решил, что пора учить парня дурным привычкам!
— А я считаю, ему уже можно выпить разок-другой, но только в меру, конечно, — говорит Старик. Он садится на стул и кладет ногу на ногу, чтобы снять ботинки.
— Теперь они и сами очень быстро всему научаются. Вспомнил бы лучше, что у тебя есть еще сын. И ты должен подавать ему пример.
Джим читает себе, не обращая внимания на происходящее.
— Я так полагаю, что подаю хороший пример любому из моих сыновей, — говорит Старик и подмигивает мне, воспользовавшись тем, что Старушенция повернулась к нам спиной.
Я подмигиваю ему в ответ. Я чувствую себя навеселе, а потому помалкиваю и двигаюсь очень осторожно, чтобы наша Старушенция ничего не заметила.
На минуту кажется, что этим дело не кончится и она будет говорить и говорить, но она вдруг решает прекратить пререкания и принимается снова гладить и развешивать выглаженное.
Глава 7
I
— Тебе хорошо было? — шепчет она мне на ухо.
— Да, — говорю я, — мне было хорошо.
Я лежу на расстеленном плаще рядом с ней, на спине и смотрю сквозь ветви деревьев на небо. Оно сегодня высокое, огромное и светлое; темными тенями бегут по нему облака, закрывая луну. Несколько секунд я лежу совсем опустошенный — без мыслей, без чувств, будто даже и не живу. Потом меня обжигает стыд. Это первое, что всегда приходит потом, только теперь я пообвыкся и легче его переношу. А сейчас меня еще пронзает мысль: ведь я ничего больше не чувствую. Голова у меня работает яснее и четче, чем когда-либо с тех пор, как я впервые увидел ее и подумал, могу ли я ей понравиться. Голова работает четко и ясно, и это очень страшно, потому что я не люблю ее, — вот она, правда. И она даже не очень-то нравится мне. И не из-за того, что произошло между нами, хоть я и знаю, что после первых встреч, когда мне хотелось лишь быть рядом с нею и чтобы она любила меня, именно то, что между нами ничего не было, мешало мне понять, что в конце-то концов я вовсе ее не люблю. Решить же, нравится она мне или нет — ну, как одни люди вам нравятся, а другие нет, — я не мог просто потому, что с первого же взгляда, не обмолвившись с ней ни словом, влюбился в нее. Теперь же я лишь удивляюсь, как я мог столько времени терпеть ее, — терпеть ее сплетни, ее глупость и интерес к скандальным происшествиям, ее болтовню про телевизор и программы-викторины и про то, как домашней хозяйке из Вулверхемптона или Тутинга посчастливилось выиграть большой холодильник или три тысячи пар нейлоновых чулок и поездку в Америку, когда она ответила на вопросы, которые знает каждый ученик в четвертом классе начальной школы. Но я знаю также, почему я ее терпел, — только этого больше нет и ничего другого взамен не появилось. Мне даже трудно поверить, что всего каких-нибудь две-три недели назад я мог бы пойти ради нее на край света. Сейчас я этого не понимаю. Не понимаю, и все.
— Что-то ты притих, — говорит она.
— Да?
— Неужели тебе нечего мне сказать? — Она поворачивается ко мне, и я чувствую на щеке ее горячее дыхание. — Вик!
— М-м-м?
— Сначала, понимаешь... ну, сначала я думала, что ты... ну, понимаешь, что ты хочешь, чтоб все было.
Я и хотел — это я твердо помню, но сейчас я меньше всего этого хочу.
— Возможно, — говорю я, — но я еще не настолько ополоумел.
— Тебе кажется, что это было бы совсем по-другому? — минуту спустя спрашивает она, и я думаю: «О боже! Ну, зачем она об этом говорит? То, что было, уже прошло, зачем же снова и снова к этому возвращаться?»
— Вероятно, — говорю я. — Не знаю.
— Вот как, ты не знаешь? — говорит она, и я думаю, что, наверно, она хочет дознаться, было у меня это еще с кем-нибудь или нет.
Внезапно во мне просыпается острое желание причинить ей боль, и я говорю:
— Ты так говоришь, точно я первый парень, с которым ты встречаешься.
— Ты что же, думаешь, что я с кем-нибудь еще так далеко заходила? — говорит она. — Ты считаешь меня такой, да?
— Почем я знаю? — говорю я. В общем-то, у меня нет особого желания обидеть ее, скорее я как бы хочу выместить на ней что-то. Она отводит глаза, и мне сразу становится жаль ее, и я говорю: — Я ведь это так, несерьезно. Я знаю, что у тебя никого до меня не было. Я знаю, что ты не такая.