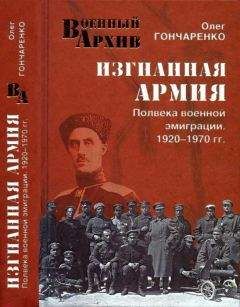порядке. […] конечный графический продукт композиторской деятельности представлял собой отнюдь не партитуру, но отдельно выписанные партии, определенным образом размещенные на развороте листов хоровых книг. […] Для того чтобы увидеть эти партии одновременно и свести их в единую вещь, нужно обладать такой способностью зрения, какой обладает глаз стрекозы. […] Графическая, или «зрительная», рассредоточенность нотного текста может быть истолкована как […] результат «расфокусированного» взгляда на вещи [Мартынов 2005: 53–54].
Этот музыковедческий сюжет хорошо иллюстрирует подход к изучению гиперобъектов. Взамен линейной хронологии расфокусированное зрение устанавливает вариативные и зачастую более точные связи между свойствами текстоцентризма – проблематические, тематические или стилистические. Так ни один их аспект не остается изолированным от других.
От ликбез-графоманов к инженерам душ. Историко-культурные особенности
Хотя текстоцентризм в той или иной степени свойственен любой письменной культуре, отдельные мыслители подчеркивали особую роль слова именно в русскоязычной культуре: «„Литература“ в каждой истории есть „явление“, а не суть. У нас же она стала сутью» [Розанов 1995: 666]. Сегодня характеристика русскоязычной культуры как литературоцентрической (реже – текстоцентрической) привычна, ее упоминают предпосылкой других утверждений, например о словесной природе советской власти [Берг 2000: 24] или о культурных событиях рубежа XIX–XX веков [Иванов 1994: 10–11].
Разговор о том, какая национальная культура текстоцентрична в большей или меньшей степени, вряд ли имеет много смысла. Разные народы и эпохи оставили впечатляющие следы текстоцентрического мировоззрения: миф о гибели Александрийской библиотеки в одном-единственном пожаре, мир как книга Господа для средневековых христиан, рассказывание как обман убийцы в «Тысяче и одной ночи», «Энциклопедия» как катализатор Великой Французской революции, теория заговора о числе зверя в разметке штрихкодов…
В СССР конца 1920-х – 1930‐х годов русскоязычный текстоцентризм стократ интенсифицировала ликвидация безграмотности. Пропаганда объявила письменность важнейшим условием формирования нового советского человека, и одним из побочных эффектов ликбеза мощная волна графомании захлестнула редакции и издательства. Она оставила богатую источниковедческую базу для исследования текстоцентризма первых советских десятилетий.
Спектр таких источников крайне широк. Ими могут быть монографии, статьи, стенограммы диспутов. Иногда дискуссии находят отражение в художественных произведениях – отсылкой к культурной жизни или практическим ответом теоретикам (например, примирение народного и элитарного искусства в лице персонажей «Волги-Волги» или ставка на диалоги в «Великом гражданине»). Поскольку текстоцентрическая культура тяготеет к словесным формам саморепрезентации [Кондаков 2011: 624], одного лишь создания произведений недостаточно – авторы вынуждены снабжать их комментариями, либо сами высказываясь о своей работе, либо добиваясь оценки от критиков. Поэтому критика искусств (в частности, кинокритика) была плодотворной источниковой базой для изучения текстоцентризма.
Помимо того, что периодика неизбежно злободневна и политизирована, она фиксирует интересы сообщества, которые могут не проговариваться открыто. Маклюэн замечал: «Книга – это частная исповедальная форма, дающая „точку зрения“. Пресса, в свою очередь, является групповой исповедальной формой, которая обеспечивает общественное участие» [Маклюэн 2003: 231]. Периодике «удается выполнять сложную многоуровневую функцию создания группового сознания и участия, которую никогда не могла выполнить книга» [Там же: 245]. Согласно Маклюэну, пресса не ожидает новостей, но создает их из всего, что происходит в сообществе, превращаясь в его образ или срез [Там же: 240]. О схожих процессах Юрий Лотман писал так:
…поскольку культура – самоорганизующаяся система, на метаструктурном уровне она постоянно описывает самое себя (пером критиков, теоретиков, законодателей вкуса и вообще законодателей) как нечто однозначно предсказуемое и жестко организованное. Эти метаописания, с одной стороны, внедряются в живой исторический процесс, подобно тому как грамматики внедряются в историю языка, оказывая обратное воздействие на его развитие. С другой стороны, они делаются достоянием историков культуры, которые склонны отождествлять такое метаописание, культурная функция которого и состоит в жесткой переупорядоченности того, что в глубинной толще получило излишнюю неопределенность, с реальной тканью культуры как таковой. Критик пишет о том, как литературный процесс должен был бы идти [Лотман 1992: 119–120].
Между упорядоченным метатекстом и реальной культурой очевиден зазор – его зияние варьируется от эпохи к эпохе. В одних метатекст не отличается высокой упорядоченностью, так как самой законодательной теории присуща сильная неопределенность. В других эпохах реальная культура менее неопределенна, так как ее объекты более однородны.
В зоне пересечения этих двух моделей и находится текстоцентрическая культура СССР 1930-х. Для ее произведений характерна относительная гомогенность, тогда как они же часто подвергались критике непредсказуемо разнородной, иногда противоречащей. Очевидно, резкие различия в оценке одних и тех же произведений имели политические мотивы.
Хаос критических оценок имел сложные внутренние законы, которые не вполне заметны в отдельных моментах, поэтому их сложно рассматривать изолированно. Советская критика рефлексировала не только по поводу культурных процессов, но и по поводу самой действительности в свете актуальных общественных идей. От критики требовалось адаптировать абстрактные директивы власти к каждому конкретному случаю – переводить идеологию на злободневный язык. Так печать постоянно репрезентировала официальную целостность госаппарата от партийной верхушки до отдельных исполнителей – литературоведов, актеров, чиновников, строителей и т. д. Так критика воплощала одну из форм тотальной идеологии, готовую вобрать все: от кинопремьер до открытий естественных наук, от литературной классики до новостей спорта.
Разнородность поводов гармонизировалась стандартной рубрикацией: материал распределялся либо по жанрам – в соположении художественной и нехудожественной литературы, либо по темам в нон-фикшн. Структуру периодики изучали как ленинградские формалисты [Шкловский 1990; Тынянов 1977а], так и современные авторы [Гудков 1994; Снигирева 1999; Шильникова 2011]. Но исследования часто вели в типологию журналистики, разделяя журналы и газеты, или фокусировались на созидательном потенциале: журнальную форму анализировали как инструмент творчества, но не реконструкции отраженной в ней культуры.
Кондаков объясняет сложившуюся в СССР ситуацию, сравнивая ее с золотым веком русской критики – серединой XIX века:
И критика, и литература в своем массово-политизированном бытии стали функциональными компонентами партийно-государственной идеологии […]; само былое противостояние критики и литературы было «снято» перед лицом вездесущей монополизированной идеологии [Кондаков 2011: 989].
Но институт критики в сталинском СССР вряд ли противопоставлял себя искусствам или другим предметам анализа. Напротив, индивидуальная или редакционная позиция предполагала обязательную дистанцию от объекта критики, даже если она требовалась для восхваления [Гроссман-Рощин 1929: 22]. Автономия критика возводилась в статус эталона частыми отсылками к предшественникам – Белинскому, Добролюбову или Чернышевскому. Таким путем ролевой моделью критика в сталинском СССР стал русский публицист середины XIX века с его высокой миссией. Кондаков писал о том времени:
Критика, в представлении самих критиков и их читателей, была универсальнее литературы уже потому, что она рефлексировала и критически переоценивала не только отдельных писателей и даже не