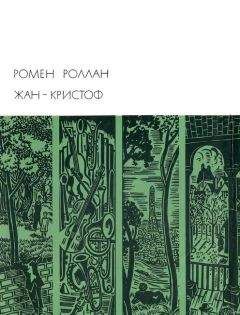Оставшись один, Кристоф забился за шкаф; он плакал, горько плакал. Младшие братья играли в соседней комнате. Мальчик не мог осмыслить происшедшее. Он даже не думал о дедушке – он думал о том ужасном зрелище, которому стал свидетелем, и ужасно боялся, что ему велят вернуться к дедушке, а там он снова увидит ту страшную картину.
И действительно, когда малыши, набегавшись на свободе по всему дому и все перетрогав, начали жаловаться, что они устали, что им скучно, что им хочется есть, торопливо вошла Луиза, взяла детей за руки и повела к деду. Шла она очень быстро, так что Эрнст и Рудольф, по обыкновению, расхныкались, но Луиза прикрикнула на них, так что оба разом умолкли. Детьми овладел безотчетный страх; на пороге дедушкиного дома они начали плакать. Темнота еще не наступила. Последние отблески заката скользили по комнатам, выхватывая из темноты то медную ручку двери, то край зеркала, то причудливо освещали скрипку, висевшую на стене в полутемной столовой. Но в спальне горела свеча; дрожащий язычок пламени боролся с умирающим светом дня, и казалось, в углах комнаты зловеще сгущается тяжелый ночной мрак. Сидевший у камина Мельхиор плакал навзрыд. Доктор, склонившись над постелью, заслонял лежавшее на ней тело. Сердце Кристофа неистово забилось. Луиза велела детям стать около постели на колени. Тут Кристоф осмелился поднять глаза. Он ждал чего-то очень страшного после того, что видел там, в саду, и вначале почувствовал даже облегчение. Дедушка лежал неподвижно и как будто спал. Мальчику на минуту показалось, что дедушка выздоровел и теперь все снова в порядке, но когда он услышал тяжелое дыхание больного, когда, приглядевшись, увидел отекшее лицо, синяк, разлившийся в большое лиловое пятно, когда понял, что тот, кто лежит здесь на постели, умрет, он задрожал всем телом. И, повторяя за Луизой слова молитвы, прося бога, чтобы дедушка выздоровел, он думал: если дедушка не выздоровеет, то пусть уж поскорее умрет. Он ужасался тому, что должно произойти.
Старик так и не пришел в себя. Сознание вернулось к нему только на минуту, но в эту минуту он все понял; и все охватил мрак. Священник стоял возле изголовья и читал отходную. Старика приподняли на подушках, он с трудом открыл глаза, – казалось, тяжелые веки не повинуются его воле; он шумно задышал и отсутствующим взглядом обвел комнату, лица родных, огоньки свечей, потом вдруг раскрыл рот; непередаваемый ужас исказил его черты.
– Значит, я умираю, – пробормотал он, – значит, я умираю.
Ужас, с каким были произнесены эти слова, пронзил сердце Кристофа на всю жизнь; им навсегда суждено было остаться в его памяти. Старик не произнес больше ни слова; он начал ныть, как ребенок. Потом впал в забытье, но дыхание его становилось все более затрудненным. Он жалобно стонал, судорожно двигал руками, словно боролся с могильным сном. Раз он почти бессознательно позвал:
– Мама!
О, как жутко было слышать лепет старика, в ужасе позвавшего мать, как позвал бы свою маму сам Кристоф, – позвавшего мать, о которой он никогда не говорил прежде и к которой воззвал теперь, к последнему и, увы, бесполезному прибежищу в последний, страшный час! На минуту он, казалось, успокоился, сознание вновь вернулось к нему, тяжелый взгляд его бессмысленно блуждающих глаз остановился на Кристофе, похолодевшем от ужаса, – и вдруг глаза умирающего просветлели. Старик с усилием улыбнулся и хотел что-то сказать. Луиза подвела старшего сына к постели. Жан-Мишель пошевелил губами и приподнял руку, очевидно, желая погладить любимого внука по головке, но внезапно снова впал в забытье. Это был конец.
Детей тут же выпроводили в соседнюю комнату, все были заняты, и никто ими не интересовался. Кристоф, прикованный ужасом, не отрываясь, смотрел сквозь полуоткрытые двери на трагическое лицо, запрокинувшееся на подушках, посиневшее, будто вкруг шеи обвились чьи-то безжалостные руки, – смотрел на старческое лицо, на котором уже западали щеки, губы, глаза, по мере того как все существо уходило в небытие, словно его всасывала пустота, – вслушивался в отвратительный хрип, механический ритм дыхания, будто на поверхности воды лопались, булькая, один за другим пузырьки воздуха, – последние вздохи тела, упорствующего в своем желании жить, когда душа уже отлетает. Потом голова старика соскользнула с подушки, и стало тихо.
Только несколько минут спустя Луиза заметила стоявшего в дверях сына. Мальчик побледнел, его глаза остановились, рот мучительно искривился; судорожно сжимая ручку двери, он наблюдал за поднявшейся в спальне суматохой, сопровождаемой рыданиями и молитвами. Луиза в испуге подбежала к сыну. Когда она схватила его на руки и понесла, у него сделался нервный припадок. Он потерял сознание. Очнулся он на своей постели и закричал от страха, потому что случайно никого не оказалось рядом. Припадок повторился, и мальчик снова потерял сознание. Всю ночь и весь следующий день его била лихорадка. Мало-помалу он успокоился и проспал ночь глубоким сном. Проснулся он около полудня. Ему смутно припомнилось, как кто-то ходил по комнате, как наклонялась мать над его изголовьем и целовала его, ему чудилось тихое, отдаленное пение колоколов. Но ему не хотелось двигаться, он был в полузабытьи.
Когда Кристоф снова открыл глаза, в ногах его постели сидел дядя Готфрид. Мальчик так ослабел, что ничего не помнил. Постепенно память вернулась к нему, и он громко заплакал. Готфрид поднялся с места и обнял мальчика.
– Ну что малыш, как ты? – спросил он ласково.
– Ах, дядя, дядя! – простонал мальчик, прижимаясь к Готфриду.
– Плачь, – сказал Готфрид, – плачь.
И заплакал вместе с Кристофом.
Слезы облегчили Кристофа, он утер глаза и взглянул на Готфрида. Дядя понял, что мальчик хочет его о чем-то спросить.
– Нет, – сказал он, кладя ему на губы палец. – Не надо говорить, надо плакать, а говорить не надо.
Но мальчик не унимался.
– Все равно я тебе не буду отвечать.
– Только одну вещь скажи, только одну.
– Ну, чего тебе?
Кристоф запнулся.
– Дядя, а где он сейчас?
– Он в царстве небесном, детка.
Но не это хотелось знать Кристофу.
– Нет, ты не понимаешь. Где он, он сам?
Под словом “он” Кристоф подразумевал тело.
И добавил дрожащим голосом:
– Он еще дома?
– Сегодня утром похоронили нашего старика, – ответил Готфрид. – Ты что же, разве не слыхал, как звонили колокола?
Кристоф вздохнул с облегчением. Но при мысли, что никогда больше он не увидит милого дедушки, мальчик снова горько заплакал.
– Бедный ты мой котеночек, – повторял Готфрид, жалостливо глядя на мальчика.
Кристоф думал, что Готфрид будет его утешать, но дядя даже не пытался смягчить горе ребенка, сознавая всю бесполезность своих слов.
– Дядя Готфрид, – спросил мальчик, – а ты разве не боишься? Совсем не боишься этого? (Как хотелось Кристофу, чтобы дядя не боялся и открыл ему эту тайну!) Но Готфрид задумался.
– Тише! – произнес он дрогнувшим голосом. – Как же, конечно, боюсь, – продолжал он помолчав. – Да что поделаешь? Так уж оно есть. Приходится покоряться.
Кристоф возмущенно потряс головой.
– Приходится покоряться, малыш, – повторил Готфрид. – Такова его воля там, на небесах, а мы должны принимать его волю.
– Я его ненавижу! – злобно воскликнул Кристоф, грозя небу кулаком.
Готфрид оторопело поглядел на племянника и велел ему замолчать. Да Кристоф и сам испугался своих слов и начал повторять молитвы вслед за дядей. Но сердце его кипело от негодования, пока уста твердили слова рабского смирения и покорности, в душе росло одно чувство – страстный бунт и ужас перед этой гнусностью и перед тем, кто был ее чудовищным творцом.
Череда дней и дождливых ночей прошла над свежевскопанной землей, где одиноко покоился старый Жан-Мишель. Сначала Мельхиор плакал, кричал, рыдал. Но уже к концу недели Кристоф с удивлением услышал беспечный смех отца. Когда при Мельхиоре упоминали о покойном, лицо его омрачалось, губы плаксиво кривились, но он тут же продолжал прерванный разговор и возбужденно размахивал руками. И хотя он был искренне огорчен, он не мог долго предаваться печальным думам.
Безропотная Луиза покорно приняла новое горе, как безропотно принимала все. К ежевечерним своим молитвам она присоединила еще одну; она аккуратно посещала старое кладбище и старательно ухаживала за могилкой, как будто и могилка стала частью ее домашнего обихода.
Дядя Готфрид с трогательным вниманием относился к холмику, где покоился старый Жан-Мишель. Когда дядя возвращался домой из своих странствований, он всякий раз приносил дедушке в подарок какую-нибудь вещицу – то самодельный крестик, то любимые цветы Жан-Мишеля. Никогда он не пропускал случая зайти на кладбище, если попадал в город хотя бы на несколько часов, но посещения свои держал от всех в тайне.
Иногда Луиза брала старшего сына с собой на кладбище. Кристоф чувствовал непреодолимое отвращение к жирной кладбищенской земле в мрачном убранстве деревьев и цветов, к тяжелым запахам, которые плыли в солнечных лучах, заглушая мелодичное дыхание кипарисов. Но он не смел признаться матери, что здесь ему все отвратительно; в душе он упрекал себя в трусости и безбожии. Кристоф очень страдал. Мысль о дедушкиной смерти неотступно мучила его. А ведь он уже давно знал, что смерть вообще существует, даже думал о ней, даже боялся ее. Но он никогда еще не видел смерти и, увидев ее впервые, понял, что раньше не знал, совсем ничего не знал ни о смерти, ни о жизни. Все вдруг разом пошатнулось, рассудок тут бессилен. Считается, что живешь, считается, что приобрел какой-то опыт в жизни, и внезапно оказывается, что ничего-то ты не знал, ничего-то ты не видел, что жил доселе за плотной завесой иллюзий, сотканной усилиями твоего ума, и за этой завесой не разглядел страшного лика действительности. Нет ничего общего между идеей страдания и живым существом, которое страдает и исходит кровью. Нет ничего общего между мыслью о смерти и судорогами тела и души, мятущейся в предсмертной муке. Все людские слова, вся человеческая премудрость – все это лишь игра деревянных паяцев из театра ужасов в траурном сиянии реальности, где жалкие существа из праха и крови, делая отчаянные и тщетные усилия, цепляются за жизнь, которую подтачивает каждый убывающий час.