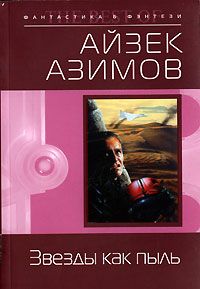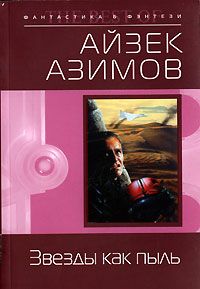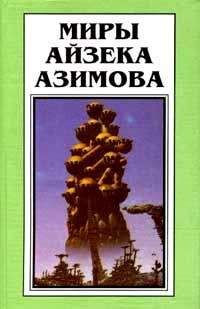При этом надеюсь всё же, что письмо это будет небесполезно в Ваших разысканиях, и остаюсь нижайшим покорным слугой.
Георг Фридрих Гендель.
Телеманн — Генделю, 3 июня 1736 г.
Дорогой друг!
Только что получил от вас письмо, прочёл и немедленно уничтожил его — как вы и просили. С тех пор, как я писал вам последний раз, произошло множество событий, и вот самое главное: Astrophytum погиб! Увы, погиб безвозвратно! Я не устаю оплакивать мой кактус, а вместе со мною и вся учёная клика, которая с момента его смерти наладилась что ни день устраивать скорбные паломничества в мою оранжерею.
Astrophytum зачах, тому виной — проклятые докторишки во главе с этим надутым чурбаном — Авеллони. Они, видите ли, хотели исследовать способности растения к мимикрии, при этом совершенно не учли нежную душевную конституцию нашего дружочка.
Они оскорбили и замучили его.
И всё это произошло в моём доме! Стоило мне отъехать на пару дней (меня попросили крестить сына одного из моих друзей-музыкантов, и я никак не мог отказаться), как эти беспардонные мартышки оккупировали моё жилище, выпили бочонок прекрасного ганзейского вина и убили мою мечту, чудесный цветок моей души.
Сперва они даже не потрудились объяснить, что произошло, но видя, что я настаиваю и не успокоюсь, пока не получу полный отчёт, Авеллони рассказал мне всё: он-де был убеждён, что качество и смысл музыки не имеют особого значения, мол, наш кактус примет всё, что ему ни скорми — услышит, переварит и преобразится соответственно. И они, эти исчадия, пригласили шарманщика (вы слышите, Гендель, шарманщика!), заплатили несчастному за ночь вперёд и оставили его в моей оранжерее, строго-настрого наказав играть без перерыва.
Наутро всё было кончено.
К его чести нужно добавить, что Авеллони рвал на себе волосы и даже предложил мне денежную компенсацию, но я был безутешен — ни к чему мне его медяшки, раз невозможно вернуть к жизни моё сокровище!
Ах, Гендель, если бы вы знали, как мне жаль его! Особенно теперь, после того, как я узнал вашу историю.
Возможно, если бы они догадывались, если бы они лучше представляли себе, с чем имеют дело.
Но полно стенать и хныкать.
На будущий год декан планирует экспедицию в Мексику и клятвенно обещает добыть для меня такой же точно экземпляр (разумеется, я ему ни на грош не верю).
Дорогой мой Гендель! Чем больше я думаю об этой истории, чем глубже пытаюсь понять, с чем нам довелось столкнуться, тем лучше вижу: нам нужно быть внимательными к самим себе, а уж потом искать ответы, глядя на растения или пирамиды, изучая животных или вращение небесных светил.
Временами посреди ночи я поднимаюсь — внезапно, как на парад — и долго всматриваюсь, стараясь разглядеть в сумраке завиток ускользнувшего сновидения. В такие мгновения мне чудится, что я догадываюсь о том, что случилось на самом деле, о смысле нашей встречи, и о том, что произойдёт с нами далее.
Но приходит утро, и я — как все прочие-остальные — блуждаю в потёмках, не зная ничего и ничего не понимая — ни в себе, ни в людях, ни в музыке.
Остаюсь нижайшим покорным слугой.
Георг Филипп Телеман
Мамины руки на клавишах рояля.
Почему-то из всех её пьесок, этюдов, капризов, мазурок и полонезов в памяти сохранилось только это — «Pozegnanie Ojczyzny». Она играла, конечно, очень плохо.
Никогда, ни разу не слышал я этого полонеза, сыгранного от начала до конца — без запинки.
Рояль был ужасно расстроен.
Настройщик сказал: бросьте вы это гиблое дело.
Папа не любил полонез Огинского и называл его ваша дешёвая сентиментальщина.
Мне было 12.
Он имел в виду меня с мамой, когда говорил ваша дешёвая сентиментальщина.
Наверное, он был прав. Папа был психиатр. Он знал толк в этих вещах.
Однажды он принёс домой магнитофонные записи бесед с пациентами.
(Уголовно наказуемое деяние).
Один из пациентов был уверен в том, что Луна домогается его сексуально.
Я слушал эти записи тайком от родителей — днём, когда они были на работе.
По вечерам мама играла мне.
Она смотрела в ноты пристально и немного тревожно, будто чувствовала, что вот-вот запнётся. Мне хотелось её обнять. Я сидел рядом, стараясь не двигаться. Дышать как можно реже. Не дышать.
Мама была очень хрупким существом: скрипнувший стул или звук шаркающей подошвы мог поцарапать её.
Она называла этот полонез не иначе как «Les Adieux à la Patrie», будто её плохой французский был способен что-то прибавить этой музыке.
Иногда эти вечерние концерты продолжались заполночь. После мне часто снилась Луна.
По вечерам женщины плавали в озере.
Мужчины засиживались в беседке.
Звезд никогда не было.
Пахло крапивой.
Пахло купоросом, крапивой.
Телеграфные столбы огибали усадьбу.
Касаясь галечных насыпей.
Галька фосфоресцировала, шевелясь.
Шаги казались голосами.
Леонид Шваб
Тишина — это голос, выпевающий идеальный звук «А». Это то «А», которое стоит за всяким «а», предшествует ему и его порождает, как праотец Авраам.
В городе всегда кто-то гремит, скрежещет, стучит, жужжит, бормочет, лает, фонит, скрипит, криком кричит, тишина в городе — когда эпицентр не прямо тут, а в некотором отдалении. У соседей.
То ли дело тишина в пустыне Арава! Ранним утром садятся прямо на голый камень и ждут — что будет в воздухе?
Каждое утро — в пять или в шесть часов, смотря по сезону. Туристы на джипах — явятся раз в год за своей порцией, проглотят, не разжёвывая, и — поминай как звали. Есть и другие — те в пустыне ночуют. Наутро, если останутся в здравом уме, возобновляют существование. Третьи (их совсем мало) живут в пустыне. Прямо в пустыне живут. В тишине.
О них и сказать-то нечего, в такой тишине они обитают. Меня (как и всех остальных) завораживает собственная речь. Своя интонация, свой голос. Своя повадка. Манера и жест. Когда ничего этого нет, наступает полная тишина.
Хтоническая.
Больничная тишина, какой она бывает лишь ночью — фон, не разлагаемый на составляющие, сплошной, как запах, к которому успел принюхаться, — гулкие шаги в коридоре, побрякивание инструментов, повизгивание, с которым колёсико скользит по ли-нолиуму, голоса медсестёр, сонное бормотание соседей.
Тишина, производимая лопастью вертолёта.
Тишина динамиков телевизора, настроенного на «пустой» канал.
Тишина: вода убегает в сливное отверстие ванны.
Я — как эскимос — на слух и на ощупь различаю множество типов и разновидностей тишины, и каждому из них готов дать имя собственное.
Стремительно убывающая (подобно пароходному дыму) струйка времени — отпущенная нам тишина.
Он поднялся в спальню и принялся расстёгивать камзол, но прежде чем раздеться, присел на низенький подоконник и подышал на оконное стекло. Замёрзший луг стал озером. Маленькая роща у дороги превратилась в монолитную гладкую стену, очертания отдельных деревьев едва угадывались. Луна была на ущербе. Ветра не было вовсе.
За спиной скрипнула дверь, он обернулся, и, прежде чем успел что-либо разглядеть в полутьме, почувствовал тёплое дыхание.
— Ты почему не спишь?
Девочка вздохнула и вместо ответа крепко обняла его, уткнувшись носом в рукав.
— Хочешь остаться тут?
— Ложись. Я посижу с тобой. Зажечь свечку?
— Расскажи что-нибудь.
— Ладно. Поворачивайся на бочок. Голову положи на подушку. Записки на манжетах.
Он не видел её глаз, но чувствовал, что она смотрит на едва различимое пятнышко света на стене — прямо напротив окна, медленно заплывающего ледяной коркой.
— Жила-была девочка. Звали её…
— …Каролина… — верно. и была у неё. — утка.
— …болыпая-преболыпая. Такая большая, что Каролина могла сесть сверху и отправиться в путешествие. А ещё эта утка умела говорить.
—. и считать до четырёх. — точно! Когда она принималась считать, все вокруг останавливались и смотрели. Видано ли: говорящая утка, которая к тому же умеет считать до четырёх! И вот как она считала:
—. Раз. . Два…… Три……….
Отец подождал ещё немного, наклонился и шепнул ей на ушко: «Четыре». Девочка не шелохнулась. Он замер, прислушиваясь к её дыханию, затем осторожно поднялся, стараясь двигаться так, чтобы кровать не скрипнула.
…я опять поставил перед собой задачу не трансформировать цитаты, а представить их друг перед другом в чистом виде.
Альфред Шнитке (из книги А. В. Ивашкина «Беседы с Альфредом Шнитке)
***