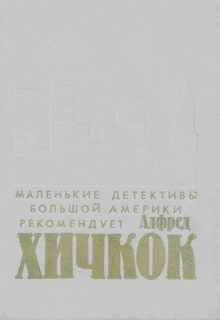кузнечного стана. Петя понял, что его повезут одного. Гремя кандалами, опустившись на солому, -
в углу был брошен старый, дырявый тулуп и стояло деревянное ведро, - он представил себе карту
России. «Больше месяца до Иркутска ехать, - хмыкнул Петя, - к осени как раз к Чите доберемся».
Он рассеянно постучал пальцами по крепкой стене закрытого возка. Дверь была заперта снаружи,
в крохотное, зарешеченное окошко, устроенное под самой крышей, просачивался свет белой
ночи. Петя замер.
-Я был дурак, - сказал себе Петя. «Оптический телеграф - это ерунда, прошлый век. Его еще
древние греки использовали. Мы перестукивались, и с Павлом Ивановичем, и с Луниным, что
слева от меня сидел. Надо использовать для связи электрические сигналы. Каждая буква алфавита
заменяется набором точек и тире. Длинные и короткие удары, вот и все. Остается продумать
механизм их передачи по проводам, - Петя оглянулся, - возок уже тронулся, - и рассмеялся: «Какой
карандаш, какая бумага? Ладно, - велел он себе, - пока запоминай, а потом, будем же мы где-
нибудь останавливаться? Там и достанешь все, что тебе нужно. Поработай, и подумаешь о
Женечке, так и быть».
Он привалился к стене возка и стал размышлять под еще медленный ход обоза, что уже выехал за
ворота крепости.
Кронверк был пуст, догорали костры. Пестель, посмотрев в окно, - после гражданской казни их
привели обратно в Алексеевский равелин, - вздохнул: «И попрощаться ни с кем не дали. А
генералы остались, будут смотреть на то, как нас вешать станут. Казалось бы, мы же офицеры -
могли и расстрелять».
В камере было тихо. Он, обернувшись, присев на койку, поднял глаза на человека, что устроился за
столом. «Я знаю, Павел Иванович, - смешливо сказал пастор, - знаю, что вы причащаться не хотите,
и настаивать не собираюсь».
Вечером комендант Сукин принес ему бумагу и карандаш. Пестель написал родителям, а потом,
откинувшись к стене, закрыв глаза, стал вспоминать ее. «Я виноват, конечно, - горько сказал себе
он, - виноват перед Жанной. Я перед всеми виноват. Если я взял на себя ответственность, так надо
было становиться единоличным руководителем. Один бы сейчас и расплачивался. А так дети
отцов своих лишились. Люди, что за мной пошли, на каторге сгниют. Виноват, - твердо повторил
Пестель и взял еще несколько листов.
Жанне он написал просто - что любит ее, любил всегда, с того самого мгновения, что увидел ее в
гостиной Воронцовых-Вельяминовых. Написал, что он благодарен, за то счастье, что испытал
рядом с ней, и просит прощения за свои ошибки. «Живи в радости, любовь моя, - закончил
Пестель, - и знай, что в свою последнюю минуту я буду видеть тебя такой, как я тебя помню, такой,
как ты останешься для меня, Жанна».
Он отложил карандаш и услышал ее шепот там, ночью, в жаркой каморке корчмы. Пестель вдруг
улыбнулся: «Да, я ей сказал, что виноват, виноват перед ней, за то, что было в Мотовиловке. Я не
имел права так поступать. А она обняла меня, и ответила: «Даже самые сильные люди иногда
бывают слабыми, Пестель. Я тоже. Вот как сейчас - я хочу побыть слабой. Не оставляй меня».
-И я тогда ответил: «Никогда не оставлю, Жанна». Он все сидел с закрытыми глазами: «А вот
пришлось».
Со вторым письмом было труднее. Он даже не знал, кому пишет - сыну, или дочери.
-Да какая разница, - понял Пестель. «Жанна, конечно, была права, а я, дурак, еще ревновал ее.
Если бы она меня не любила, она бы просто ушла, вот и все». Он писал медленно, обдумывая
каждую фразу.
-Попрошу Жанну, чтобы отдала ребенку, когда он вырастет, - решил Пестель. Ему почему-то все
равно казалось, что это будет девочка.
Он написал о восстании, написал о том, что понял - такими мерами не изменить общественный
строй, необходима долгая и кропотливая работа, над самосознанием рабочих и крестьян. Пестель
писал о том, что все граждане страны должны быть равны перед законом, о том, что надо
искоренить сословную, имущественную, и религиозную дискриминацию. «Политическое
завещание получилось, - невольно улыбнулся Пестель. «Я же ребенку своему пишу. Что делать,
если я считаю важным для него знать о моих взглядах. Вот еще что, - он подумал и приписал: «Но,
то, что мы посеяли, взойти должно, и взойдет непременно».
-Милая моя девочка, - невольно написал он, и, остановившись, не стал исправлять. «Милая моя
девочка! Я очень любил твою мать. Если бы наша жизнь сложилась по-другому, я был бы счастлив,
провести с ней все те дни, что мне отмерила судьба. Поэтому я прошу тебя - не бойся любить, и
знай, что только это чувство дает нам силы жить, и двигаться дальше, для того, чтобы мир вокруг
нас изменился к лучшему. Любовь побеждает все. Твой отец, Павел Пестель».
Рейнбот сразу согласился взять письма и только кивнул: «Что вы, Павел Иванович, даже говорить
не о чем. Не волнуйтесь, я их почтой отправлять не буду. Пошлю с надежным человеком в
Германию, а оттуда они до Брюсселя доберутся».
-Спасибо, - вздохнул Пестель. « Причащаться я не буду, а вот если бы вы мне почитали, - он
взглянул на Евангелие, что лежало на столе, - я бы вам был благодарен, герр Рейнбот».
Пастор взглянул на него: «Вот же самообладание, через полчаса их на виселицу поведут, а он со
мной беседует так, как будто мы на светском приеме встретились».
Синие, такие синие глаза все улыбались.
-Я смерти, герр Рейнбот, - сказал Пестель, - не боюсь. Я боевой офицер, я семнадцати лет в армии
начал служить. Жаль только..., - он не закончил. Взяв Евангелие, он подмигнул Рейнботу: «Я сам
вам почитаю. Я, хоть и в Бога не верю, но этого, - Пестель положил ладонь на книгу, - никто лучше
не сказал».
У него был красивый, низкий голос. «Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею
всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И
если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том
никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не
превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего. Любовь не раздражается, не мыслит
зла, не радуется неправде, а радуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все
переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и
знание упразднится».
-Но любовь из них больше, - закончил Пестель и отдал Рейнботу Евангелие: «Я готов».
Николай отодвинул шторку возка и велел Бенкендорфу: «Пойди, Александр Христофорович, пока
их не вывели, прикажи для этого Пестеля веревку поменять, длиннее сделать. Пусть как следует,
помучается, упрямец. Три средние веревки должны быть слабыми, напомни им. Что там с местом
захоронения? - он внимательно посмотрел на собеседника.
Тот передал ему записку. Николай пробежал ее глазами и усмехнулся: «Решили в том же месте их
выбросить, куда уже один труп вывозили. Во времена бабки моей, отсюда же, из Алексеевского
равелина. Хорошо. Иди, - он кивнул, - передай распоряжение».
Бенкендорф ушел. Николай, раздув ноздри, вынул из кармана мундира ее письмо. Он уже
распорядился доставить ее во дворец наутро, после казни. Жена с детьми была в Царском Селе -
оправлялась после выкидыша.
-Никто мне не помешает, - Николай глядел на ее изящный почерк. Он опустил веки: «А если..., если
она передумает? Бывает же такое. Вдруг она захочет остаться..., Господи, я ее всю жизнь холить и
лелеять буду. Я же издал указ - жены бунтовщиков имеют полное право с ними развестись, и
согласия мужей на это не надо. Некоторые уже подали прошения о разводе. Если Евгения
Петровна останется, я даже ничего с этими Воронцовыми-Вельяминовыми делать не буду, пусть
себе живут. И с ее родителями тоже, пусть в Англию возвращаются. Александрин может умереть,
родами, она болезненная женщина. Наследник у меня есть, женюсь морганатически, ничего
страшного. Господи, неужели такое случится, я и она, всегда вместе, у нас будут дети..., - он
вздрогнул. Посидев немного, не двигаясь, император кивнул Бенкендорфу: «Пусть начинают».
Когда три веревки оборвались, когда раздался отчаянный крик сорвавшихся вниз, когда Николай
увидел кровь, залившую доски виселицы, он улыбнулся. Похрустев пальцами, император велел
Бенкендорфу: «Продолжаем. Очень, очень хорошо»
Пестель все дергался в петле. Только когда он затих, когда трупы стали грузить на телегу, Николай
приказал: «Поехали, Александр Христофорович. Все замечательно прошло, я весьма доволен».
В кабинете пахло сандалом, окна, - несмотря на яркий, летний полдень, - были зашторены.