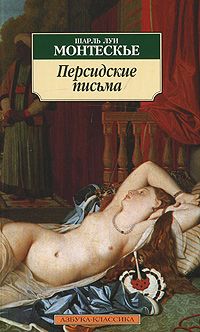Ничто не приближает так наших повелителей к их подданным, как осуществляемая ими огромная власть; ничто так не подвергает их переворотам и превратностям судьбы.
Их обыкновение сразу же предавать смерти всякого, кто им не угоден, нарушает равновесие, которое должно быть между преступлением и наказанием и которое является как бы душою государств и гармонией империй; это равновесие, тщательно соблюдаемое христианскими государями, дает им безграничное преимущество перед нашими султанами.
Персиянин, по неосторожности или по несчастной случайности навлекший на себя гнев государя, уверен, что его постигнет смерть: малейшая его ошибка или прихоть повелителя неизбежно влекут за собою такой исход. А если персиянин покусится на жизнь своего государя или предаст врагам его крепости, он точно так же лишится жизни: следовательно, в этом последнем случае он подвергается не большему риску, чем в первом.
Поэтому при малейшей немилости, предвидя неизбежность смерти и зная, что хуже ничего быть не может, персиянин естественно начинает заводить смуту в государстве и составлять заговор против монарха: это единственное средство, которое ему остается.
Иначе обстоит дело с европейскими вельможами, которых немилость государя лишает только его благосклонности и расположения. Они удаляются от двора и помышляют лишь о том, чтобы наслаждаться спокойной жизнью и преимуществами своего происхождения. Их казнят только за оскорбление величества, поэтому они стараются воздержаться от этого преступления, принимая во внимание, как много они при этом потеряют и как мало выиграют. Оттого возмущения здесь редки, и мало государей погибает насильственной смертью.
Если бы при той неограниченной власти, какою обладают наши правители, они не принимали стольких предосторожностей, чтобы обезопасить свою жизнь, они и дня бы не прожили, а если бы они не держали на жалованье бесчисленного количества солдат, чтобы тиранствовать над остальными подданными, власть их не продержалась бы и месяца.
Только четыре-пять веков тому назад французский король завел себе, вопреки тогдашним обычаям, телохранителей, чтобы уберечься от убийц, подосланных к нему незначительным азиатским государем: до тех пор короли жили спокойно среди своих подданных, как отцы среди детей.
Французские короли не только не могут по собственному произволу лишать жизни кого-либо из своих подданных, как наши султаны, но, наоборот, они всегда несут с собою милость для преступников. Если человеку посчастливится увидеть августейшее лицо государя, этого достаточно, чтобы он перестал быть недостойным жизни. Эти монархи подобны солнцу, всюду несущему тепло и жизнь.
Из Парижа, месяца Ребиаба 2, 8-го дня, 1717 года
ПИСЬМО CIII. Узбек к нему же
Чтобы продолжить то, о чем я писал последний раз, расскажу тебе приблизительно, что говорил мне на днях один довольно здравомыслящий европеец:
«Самое худшее, что только могли выдумать азиатские государи, это прятаться, как они это делают. Они хотят внушить большее к себе уважение, но на деле внушают уважение лишь к королевскому сану, а не к самому королю, и привязанность подданных относится к трону, а не к определенному лицу, его занимающему.
Невидимая власть, управляющая народом, остается для него всегда одной и той же. Хотя бы целых десять известных ему только по имени государей перерезали друг друга, народ не почувствует ни малейшей разницы, — все равно как если бы им последовательно управляли десять духов.
Если бы гнусный убийца нашего великого короля Генриха IV{110} направил свой удар вместо него на какого-нибудь индийского царя и овладел королевской печатью и несметными сокровищами, как будто именно для него накопленными, он мог бы спокойно взять в свои руки бразды правления, и никто из подданных и не подумал бы возмущаться судьбой короля, его семьи и детей.
Люди удивляются: отчего это никогда не происходит изменений в правлении восточных государей? Да оттого, что управление их тиранично и жестоко.
Изменения могут быть произведены либо государем, либо народом. Но там государи избегают что-либо менять, так как, обладая столь великой властью, они располагают всем, что только можно; если бы они изменили что-либо, то это могло бы нанести им только ущерб.
Что касается подданных, то, если кто-нибудь из них и примет какое-нибудь решение относительно государственных дел, выполнить его он не сможет, так как тогда ему нужно было бы что-то противопоставить страшной и всегда единой власти; для этого у него нет ни времени, ни средств. Зато стоит ему лишь добраться до источника этой власти, и тогда ему достаточно одной руки и одного мгновения. Убийца восходит на престол, в то время как монарх сходит с него, падает и испускает дух у ног бунтовщика.
В Европе недовольные думают, как бы завести какие-нибудь тайные сношения, обратиться к неприятелю, захватить какую-нибудь крепость, возбудить ропот среди подданных. В Азии недовольный идет прямо к государю, захватывает его врасплох, наносит удар и низвергает; он истребляет даже самую мысль о нем; в одно и то же мгновение он раб и господин, в одно и то же мгновение — узурпатор и законный монарх.
Несчастен такой государь, ибо у него только одна голова на плечах! Он словно лишь для того сосредоточивает на ней все свое могущество, чтобы указать первому попавшемуся честолюбцу, где найти это могущество все целиком».
Из Парижа, месяца Ребиаба 2, 17-го дня, 1717 года
ПИСЬМО CIV. Узбек к нему же
Не все европейские народы одинаково подчиняются своим государям: например, нетерпеливый нрав англичан никогда не дает их королю возможности упрочить свою власть; покорность и повиновение — добродетели, на которые они притязают меньше всего. На сей счет они высказывают самые диковинные суждения. По их мнению, одна только связь может соединять людей, а именно благодарность: муж, жена, отец и сын связаны между собою только любовью, которую они питают друг к другу, или благодеяниями, которые они друг другу оказывают; и различные поводы для признательности являются источником возникновения всех государств и всех обществ.
Но если государь, вместо того чтобы обеспечить подданным счастливую жизнь, вздумает их угнетать или истреблять, повод к повиновению прекращается: подданных ничто больше не соединяет с государем, ничто не привязывает к нему, и они возвращаются к своей естественной свободе. Англичане утверждают, что неограниченная власть не может быть законной, потому что происхождение ее ни в каком случае не могло быть законным. Ибо мы не можем, говорят они, дать другому больше власти над нами, чем сколько имеем ее сами. А ведь у нас нет над собою неограниченной власти: мы не можем, например, лишать себя жизни. Стало быть, заключают они, никто на земле не имеет такой власти.
По понятиям англичан, оскорбление величества есть не что иное, как преступление, совершаемое более слабым против более сильного и выражающееся в неповиновении этому последнему, в чем бы оно ни заключалось. Поэтому английский народ, оказавшись сильнее одного из своих королей, объявил, что государь, начавший войну против своего народа, повинен в оскорблении величества{111}. Следовательно, они вполне правы, когда говорят, что им нетрудно следовать предписанию их Алкорана, повелевающего им повиноваться властям, так как и невозможно этому предписанию не подчиняться; тем паче что их обязывают повиноваться не наиболее добродетельному, а наиболее сильному.
Англичане рассказывают, что один из их королей, победив и взяв в плен государя, который оспаривал у него корону, вздумал упрекать его за неверность и измену. «Да ведь всего только мгновение тому назад, — ответил ему незадачливый государь, — выяснилось, кто из нас двоих изменник».
Узурпатор объявляет мятежниками всех, кто не угнетал Отечество подобно ему, и, думая, что нет закона там, где не видно судей, приказывает почитать, как веления неба, прихоти случайности и фортуны.
Из Парижа, месяц Ребиаба 2, 20-го дня, 1717 года
ПИСЬМО CV. Реди к Узбеку в Париж
В одном из писем ты много говорил мне о науках и искусствах, процветающих на Западе. Считай меня варваром, но я не уверен, что извлекаемая из них польза искупает то дурное употребление, которое ежедневно из них делается.
Я слышал, что уже одно только изобретение бомб отняло свободу у всех народов Европы. Государи, не имея больше возможности доверить защиту укреплений горожанам, которые сдались бы после первой же бомбы, получили предлог для содержания больших постоянных армий, с помощью которых начали притеснять подданных.
Ты знаешь, что с тех пор как изобретен порох, нет больше неприступных крепостей; иными словами, Узбек, нет больше на земле убежища от несправедливости и насилий.