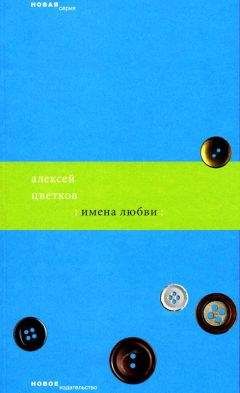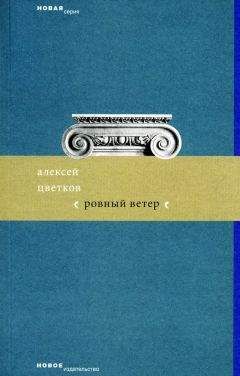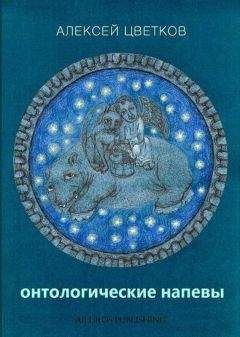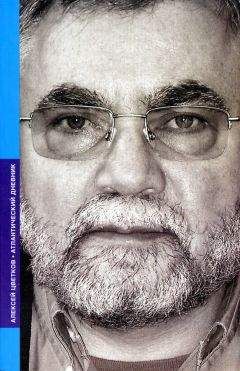Снова этот запах. Как только выйдешь на улицу. Да и в метро.
То ли лед теперь солят не солью, а чем-то новым, то ли какой-то выброс. Новости сообщают о чем угодно, только не о том, почему московские зимы пахнут теперь уксусом. «Два кислых друга, хуй и уксус», — сообщил поговорку дембельнувшийся одноклассник как пророчество перед самым началом этой зимы. Мир как уксусная губка, которую подносят к твоему носу и губам. Минус шесть холода, если верить мерцающим цифрам на крыше магазина у метро. Ты покупаешь хурму. Одну. Откусываешь прямо на морозе. Иностранец смотрит на тебя, думает: вот русский крейзи. Русский крейзи, который не знает, что хурму едят дома, разделив ножом или ковыряя ложкой, даже если кусать эту вязкую слякоть, ну не тут же, на морозе, а по месту жительства. Впрочем, почему «русский»? Возможно, он думает просто «крейзи». На тебе заграничное кожаное пальто, протертое до розовых царапин, волосы бьются по лбу, мешаясь со снегом. На шее палестинский платок, внизу армейские, «натовские» сапоги. Так может выглядеть «крейзи» в половине стран мира. Ты взвешиваешь, насколько глупо было одеться по собственной моде десятилетней давности. Скорее всего, ты вытащил униформу аутсайдера из шкафа, потому что когда носил ее, никакого пятна еще не было в твоей жизни и, ты надеешься, не было для него и причин. Не было еще здесь интернета в конце концов, хотя дело, конечно, не в нем. «Новые технологии буквально воплощают старые метафоры», — прочитал ты в случайном журнале и тоскливо стало. Потому что отвлеченная эта фраза для тебя конкретнее некуда. Конечно, пятно могло бы быть и не по сети, но только его труднее было бы заметить тогда.
Повернувшись к иностранцу, улыбаешься глянцевым счастливым рыжим ртом. Он изучает тебя глазами. Ты протягиваешь ему свою хурму с отгрызенным верхом, капающую на асфальт. Между вами метров семь. Он отворачивается, как будто тебя не видел. Ты закрываешь глаза, глотаешь, чистишь языком зубы. А когда опять видишь то, что вокруг, иностранца уже нет, мэйби он уехал в той вон, или вон в той машине.
Метелит с утра. Житель под защитой трамвайной остановки наотмашь обстукивает себе заснеженные плечи перчатками, будто в парилке веником.
Читающий твои письма с пришпиленными файлами Майкл называет Акулова «антибуржуазным» писателем. Ты переспрашиваешь, что это за громоздкий и ненужный комплимент? Майкл отвечает: для буржуазного писателя сферой интереса, героем/антигероем является человек, для антибуржуазного — общество. Буржуазный писатель ищет интересного/прекрасного/ужасного одного, а антибуржуазный захвачен интересной/прекрасной/ ужасной судьбою всех. Первый возится с единицей, второй с людьми, взятыми в их общности. Твой Акулов пишет о другом мире других людей, а не о другом человеке в этом мире. Ты ничего не отвечаешь и пишешь ему: Евич
Евич спать любил днем, а ночью — шевелиться, поэтому характер его с годами приходил в негодность, ведь требовалось по утрам добираться в офис, как когда-то в школьный класс.
Из-за этого врожденного и враждебного режима на плывущей лестнице в метро он беззастенчиво рассматривал едущих навстречу людей, всерьез не веря в них, будто они всего лишь облака из его спящего мозга. Таким же докучным сновидением он считал свою жену с ее завтраком и ее тень на стене в прихожей, непременно крестившую Евича, когда он выходил. И весь последующий день, вечер, ужин, переговоры с женой и возня с детьми виделись ему так же. Вечером вся его семья смотрела фильмы- катастрофы, взятые в прокате, и это тоже напоминало Евичу собственное ощущение жизни — полудогадаться во сне, что спишь, и не бояться, а то и развлекать себя драмами.
Ночью, часто не без феназепама, начиналась настоящая жизнь Евича. Собственно, Евичем он становился под тонким слоем век, там, где мозг развивал карнавальную активность, а на так называемом яву назывался, если его спрашивали об этом, как-то много длинней, с массой лишних слогов. В офисе и дома он был Ющий и Емый. Отдыхал от компьютера, глядя в телевизор.
Продолжая погружаться в утреннее метро на полосатой лестнице, Евич вяло думал о том, что этим летом все девушки в розовом и сиреневом, очень часто — в мелкий цветочек. И никак не продолжал эту мысль, раз уж ее можно продолжить в любую сторону. Машину он мог, но не покупал. Браться отвечать за что-то во сне не видел резона.
В офисе, если никого нет, Евич выискивал бесплатное порно в интернете. Сны должны быть не без эротики, вычитал он у Фрейда и старался не оплошать. А если снились «коллеги» и «дела», вместе со всеми ходил по комнатам, слал и принимал факсы, кого-то встречал, кому-то говорил в трубку леденящие язык английские слова, сетовал на своенравность оргтехники, сгибался над некими бумагами, якобы вникая, и передавал ниже распоряжения, якобы детализировав и дополнив. Особая суета возникала, если где-то упиралась в незапланированную преграду денежная струйка и все кидались разблокировать препятствие, говорили громче и потели сильнее. И все же это была суета сна.
Евич чувствовал себя как на экзамене в полузабытом институте, снившемся ему прежде офиса: главное не готовность, а время, — подождать, и все как-нибудь разрешится само собой, в любом случае вечером ты будешь спокойно смотреть фильм-катастрофу. Подобно прочим сотрудникам, он не мог не знать, что ничего важного они тут не делают, нового на свет не производят и даже торгуют крупными партиями чужого, никогда не виденного Евичем товара тут не они, а «Те» — биг-босс, его жена, сын и сестра с мужем. Зачем они мне снятся? — задавался иногда Евич, здороваясь с «Теми». Ответ он искал в многочисленных сонниках и многостраничных фрейдистских толкователях, которых в интернете сколько угодно. Как истолковать, например, внезапную остановку утреннего эскалатора напротив и бурную жестовую беседу двух немых пассажиров по этому поводу? Предполагалось, если он правильно истолкует ту реальность, на которую смотрит, это поможет действовать в реальности истинной, обступающей с закрыванием глаз. Но мысль о том, что все сонники и фрейдистские разгадки также есть детали дневного сна, то есть мусор его мозга, сводила эти надежды к ничто.
Чтобы задаться: откуда берутся и чем обеспечены суммы, получаемые всеми ежемесячно в офисе, — задаться и догадаться хотя бы отчасти, — пришлось бы вспомнить что-то из марксистской политэкономии, изучаемой когда-то, в таком же, как офис, то есть снившемся, заведении, а снилось оно слишком давно и даже тогда звучало как-то отвлеченно, навроде цитат из древних египетских и никому не понятных книг. Да и, опять же, любое возможное объяснение оказалось бы частью сна, а значит, заведомо могло быть проигнорировано мудрым сновидцем. Сон низачем не нужен, он обеспечивает сам себя в моей голове, — говорил себе Евич вместо политэкономии. Этого объяснения Евичу вполне хватало для разрешения любых дневных загадок и неожиданностей. Пока я смотрю, хожу и говорю, мозг спит — никогда не забывал он, — мозг просыпается, когда я лежу и молчу, захлопнув глаза и закончив день.
Популярность таких идей его не смущала. Ни пьесы Кальдерона, ни фильмы Вендерса не создавали проблем. Наличие в дневном мире книг, кино и теорий, плюс-минус уподобляющих жизнь сновидениям, Евич считал личным измышлением, следствием своего недовольства, лезущего во сне отовсюду, а все, что сказа- но-написано за века на эту тему, легко признавал собственными мыслями, но неполными, то есть совершенно не достаточными, чтобы решить вопрос.
— Вот если бы ты учился на вечернем, — сказала ему снящаяся жена, когда он попробовал обсудить с ней, — тогда бы ты наверняка все понимал и не болтался бы сейчас в офисе, а видел бы кое-что поинтереснее. Ты наверняка бы...
Но что «наверняка бы», Евич все равно не мог знать и потому сразу же забыл. И вообще понял, что разговаривает с собой, причем с собой непонимающим. «Наверняка бы» наступало с закатом, по пробуждении.
Вечерами он рассчитывал, в какой стране мира нужно жить, чтобы световой день совпал с его режимом. Расчеты всегда портило то, что снящаяся карта могла насколько угодно отличаться от настоящей географии. Подсовывались самые неблагополучные, недружественные и опасные государства, и Евича окрыляла и пьянила мечта стать бескорыстным шпионом в их пользу, но сообщить ему в эти далекие земли было нечего, даже если в офисе и случалось нечто секретно-важное, он никогда не был в курсе. Поэтому он мечтал в отпуск туда съездить, проверить: совпадет ли, а пока допоздна гулял, желая встретить другого разведчика из тех «нехороших» стран, такого же полуночника, не умеющего по-здешнему спать и тоскующего без отчизны.
Евич гулял так, чувствуя, что пробуждение близко, и вот он поужинает, а после очнется, нет, сначала пойдет дышать, а дальше ляжет в постель, закроет глаза и очнется: мозг зардеется целыми созвездиями радостных искринок. Гуляя, он ставил опыт: как будет выглядеть пробуждение, если не ложиться, ничего не закрывать, продолжать идти. Как и какие вещи предложит ему сегодня отдохнувший за день, оживленный Луной мозг? Что случится вплоть до скорбного рассветного хрипа первых ворон?