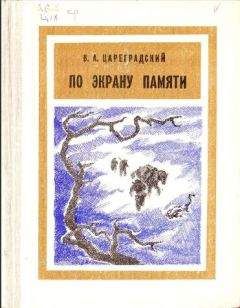зацепить за шею, схватить за волосы, стиснуть плечо. И тогда уж малой летел, все забыв, в черную пасть, в горячее облако. Воины живо срывали с малого порты и рубашонку. Громовой хохот гудел кругом него. Лилово светилась, давя жаром, горка больших камней. Солнечный луч из окошка узко пронизывал пар и всю банную черноту. Огромные голые ноги обступали малого, огромные руки прижимали его к скользкой, сильно пахнущей лавке -- и спину его вдруг широко осекало болью, радостно ожидаемой и едва стерпимой. Пугали, фырча и отплевываясь жаром, камни. Упругое тепло пихало и обхватывало малого, как материнская утроба в час опростания. И вновь, и еще, и в несчетный раз обжигала боль. Потом малого вдруг сметало с лавки, и он вылетал в холодный и яркий свет, как в первый миг своего рождения -- и летел над крыльцом и над мостками.
От удара об воду весь свет кругом лопался с треском, обжигая тело уже со всех сторон, от макушки до пят. И следом за малым, следом за его в свой черед уловленными, а потом выброшенными в реку братьями оттуда же -- из того дома, полного огненных камней, вываливалась багровая, распаренная дружина. Огромные, жаркие тела воинов падали в воду, и вода вскипала, волнами бросая малых в разные стороны.
Белое облако клубилось над рекой. Из года в год случалось потом одно и то же: ниже по течению, на плесе, слободские три дня краду цедили реку сетями, выгребая из воды обваренную рыбу и закрасневших раков.
По берегу, еле держась на ногах, уже засыпая от радости и счастья, малые поднимались наверх вместе с дружиной, со своими и чужими, готами, давно уже привыкшими ходить вместе с северскими в их горячий дом.
Братья поднимались ко граду в мощном дыхании воинов и громе-гуле их шагов, сотрясавших землю и осыпавших листья с лесов.
Шли мимо открытых врат кремника, вокруг стен и тына, и град, словно подсолнух, поворачивался им вслед своими вратами.
Отец примечал, как его последыш валится на ходу от усталости, от не изжитой еще хромоты, и подхватывал его правой, самой сильной своей -- от меча -- рукой, брал к себе только его одного. И вот младший из княжеских сыновей, на зависть Уврату да и самому Коломиру, уже плыл на отцовском плече высоко над землей, над головами воинов, над их развевавшимися по встречному ветру золотыми волосами.
Замкнув обережный градский круг, дружина направлялась через поле к святилищу Перуна-бога. Молодший княжич теперь плыл на отцовском плече высоко над жнивьем и видел впереди белые вереницы женщин, сходившихся кольцами вокруг святилища, открытого небу и всем ветрам, Стрибожьим внукам. По ветру, всегда дувшему навстречу дружине тянулась протяжная величальная песня.
И вот наконец воины, умерив шаг, входили в первое кольцо женщин, потом -- во второе, внутреннее кольцо, где становилось почти так же жарко, как в бане -- и так подступали к священному огню, зажженному в незапамятные времена самим Туром-Пращуром. Они подступали к высокому, выше всех людей, стволу Перуна-бога, днем и ночью озаренного тем священным огнем, сыном неугасимого Огня Сварога.
Темный лик бога-древа смотрел черными глазницами поверх рода и поверх княжича, сидевшего выше всех, на отцовском плече. Бог-столп видел лишь свой, неведомый северцам окоем. И тогда последыш снова забывался в полусне, в тихом и желанном страхе. Над ним стоял крепкий и высокий Перун-бог, но перед высоким Перуном-богом крепко стоял на земле отец, князь-воевода Хорог.
Потом воины передавали княжича по рукам назад -- к женщинам, к их молочному запаху и шелесту подвесок.
Величальные песни Перуну-богу стихали, и все затаивали дыхание, слыша, как вздрагивает земля, как трепещут золотые листья в лесу и падают на землю, как идет из-за леса великий жертвенный бык, отпущенный с кольца на волю -- на полное лето. Он шел, раздвигая вековые стволы и ударами копыт пуская по земле волны. Пар поднимался из его ноздрей облаками до самого неба. От его поступи вместе с листьями старые гнезда валились с деревьев и зверьки спешили покинуть свои норы, чтобы не оказаться в них погребенными заживо.
Сердце не только у маленького княжича, но даже у самого князя и старого жреца Богита подскакивало при каждом шаге жертвенного быка.
Бык шел к священному огню сам, словно его тянула цепь неслышного человечьими ушами заговора-зова. Белые кольца широко раскрывались ему навстречу. Княжич видел, как идет-приближается черная сила-гора. Бык на ходу все ниже опускал голову. Его дыхание становилось все горячее, тлела и дымилась следом за ним сухая осенняя трава.
Бык шел к огню. Княжичу еще многое не полагалось видеть но он уже знал, что в середине круга, подле Перуна-бога широкий тяжелый нож уже опускается-скользит и льется железным родником из рук старого Богита в горсти отца и, проливаясь между его ладоней, застывает лезвием, ни разу не тронувшим и не повредившим Матери-земли.
Свет дня содрогался. По Солнцу пробегала алая дымка. Порыв теплого, густого ветра обдавал лица Туровых северцев, и темный горячий поток, запретный для глаз молодших, начинал гулко вскипать и струиться там, в середине сомкнувшихся колец из женщин и мужей, у подножия бесстрастного столпа-бога, стоявшего над родом. И в вышине, над столпом и над сжатыми полями рождалось и тяжелело багровое облако бычьего дыхания, исходившего вверх уже не из темных ноздрей, а прямо из разверзшейся яремной вены.
Потом кольца-круги Туровых родичей размыкались, выпуская отца наружу. Он подходил к своим сыновьям и поднимал багрово сверкавшую руку. Он проводил перстом по лбу и переносице каждого из своих отпрысков. Каждый чувствовал на своем лице упругую полоску крови, и кровь опукалась по переносью вниз тяжелой каплей. Ту каплю так приятно было подхватить языком. Во рту делалось густо и солоно, а потом вдруг становилось горячо в горле и во всем теле. Жертвенная кровь кружила голову, пахла железом, пахла мечами, пахла забытым материнским чревом, и малые порой начинали шататься, как пьяные, и мычать на смех всей дружине, смех, от которого малым не могло сделаться стыдно.
Вслед за