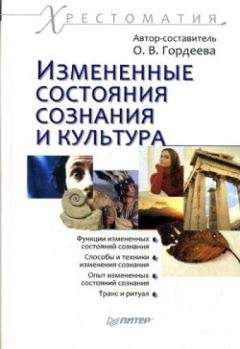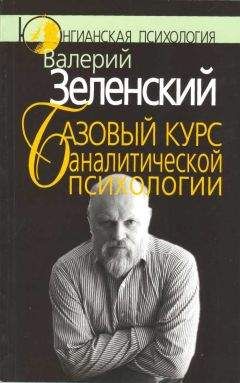Нет надобности продолжать нам дальше рисовать нашу картину и останавливаться на вопросе о том, может ли гипнотическая эвакуация головного мозга (экспериментом доказано, что может) достигнуть такой степени, при которой пробуждение человека от гипнотического сна уподобилось бы вполне его рождению. К тому же я рисовал представленную мной здесь картину отчасти с действительности: остров, о котором была речь, есть Земля; омывающий его океан – мировое пространство; повстречавшиеся друг с другом на острове существа – люди; переживаемая ими томительно-долгая робинзонада – история человеческой культуры.
Ведь если вдуматься хорошенько в положение наше здесь, на Земле, то придется согласиться с тем, что оно во всех своих пунктах сходствует с изображенным нами положением обитателей острова, за исключением только того, что мы пробуждаемся от сна, предшествовавшего нашей земной жизни, не как искушенные опытом и обладающие развитым самосознанием существа, a как лишенные самосознания и беспомощные создания. Так как в этом состоит единственная разница, то от этого же зависит и единственная разница между нашим отношением к вышесказанным вопросам и отношением к ним наших островитян. Последние пробуждаются глубокомысленными философами, так как философ есть тот, для кого представляют загадку его собственное существование и существование мира. Мы же в течение детства привыкаем к созерцанию вещей и своего собственного существа до такой степени, что они, вместо того, чтобы вызывать в нас удивление, кажутся нам вполне понятными. Когда наше сознание достигло своей степени зрелости, оно сделалось, благодаря притупляющей силе привычки, неспособным к удивлению, и мы ушли с головой в практические наши дела. Правда, по временам наиболее вдумчивые люди сознают загадочность своего на земле положения; обе загадки – и человек и мир – объявляются богословами и философами достойными размышления предметами, предметами первейшей для человеческой мысли важности; но их усилия вызвать нас на размышление никогда не оказывали глубокого и продолжительного на нас влияния уже потому, что в решении вышесказанных задач никогда не существовало согласия между ними самими.
Как бы то ни было, a везде и всегда существовало если и не ясное сознание, то смутное чувствование полной загадочности человека и его положения в мире. Никогда человечеству не мог казаться понятным сам собой факт пребывания его на называемом Землею космическом острове без знания им цели этого пребывания. Уже одно наше стремление получше устроиться на этом острове вызывается не только практическими нашими потребностями, но и объективным интересом и надеждой, что, может быть, на этом пути будет обретена нами разгадка нас самих; богословы же и философы неумолчно гласят, что одними естественнонаучными экскурсиями по нашему острову мы не добьемся ничего, что за всякой физикой должно скрываться нечто иное, метафизика, и что только там и может быть обретен ключ от извечных загадок.
В истории культуры часто наступают эпохи, в которые господствует всеобщая вера в метафизику, в которые она отливается даже в резко определенные формы. Но затем всегда наступают периоды сомнения не только относительно ее форм, но и относительно существеннейшей ее задачи. Тогда появляется та замечательная умственная болезнь, которую Шопенгауэр называет метафизической беспечностью и которая господствует в виде продолжительной эпидемии. Тогда тот, кто сохранил еще в себе настолько смирения и рассудительности, чтобы признавать загадочность мира и человека, считается мечтателем и самоистязателем. Эта болезнь приобрела в наши дни даже форму научной системы, именующей себя материализмом. Материалисты представляют нечто вроде общества воздержания от мышления: они утверждают, что нашему водворению на нашем космическом острове не предшествовало вообще ничего, и что за нашим его оставлением, за нашей смертью, также ничего не последует. В человеческом существе, мол, нет ничего загадочного, человек представляет продукт обитаемого им космического острова и состоит из того же, что и этот остров, вещества. Это земное вещество, материя, развилось в органическое вещество благодаря-де своим собственным силам (барон Мюнхгаузен вытаскивал сам себя за волоса из болота); жизнь и мысль якобы тоже результат деятельности материи.
Для материалистов мир представляет задачу физическую, человек – химическую. Бесспорно, что они таковы на самом деле; но это не препятствует им быть и задачами метафизическими. Если бы мир вдоль и поперек, начиная с величайшей звезды и кончая ничтожнейшей пылинкой, был разгадан нами, как физическая загадка, мы очутились бы в курьезном положении: всяк из нас, не потерявший рассудка, сейчас же пришел бы к сознанию существования метафизической загадки. Мы уподобились бы тогда индийскому королю, державшему при своем дворе множество ученых, на обязанности которых лежало собираться у него и поучать его; они отлично умели говорить обо всем, но не могли удовлетворить короля в одном: каждый раз, закрывая заседание и обращаясь к ним с вопросом: "ну так отчего же существует что-либо вообще?" король не получал от них никакого ответа.
Материалист видит в мире только механическую его сторону, и так как он знает только законосообразно действующие силы, то жизнь природы кажется ему бессмысленной, бесцельной игрою. Для него не имеет цели ни существование природы, ни существование нас самих. Для него механическая законосообразность и разумная целесообразность – несовместимые понятия. Это – краеугольный камень материализма, но вместе с тем и капитальнейшее его заблуждение: ведь цели вполне могут быть достигаемы, и разнообразно достигаются, на пути механического законосообразного действия. В таких случаях целесообразность даже тем неоспоримее и совершеннее, чем совершеннее механизм. В карманных часах, во всяком техническом изобретении механизм является на послугах цели; если же так, то то же самое вполне может иметь место и относительно мира.
Вообще естественнонаучное определение вещей касается только внешней стороны их, a отнюдь не их сущности. С этой точки зрения Гетевский Фауст разрешается в тряпичную бумагу и типографские чернила, ария Моцарта – в ряд последовательных колебаний воздуха. Но Гете и Моцарт ни за что не согласились бы с тем, чтобы такое определение исчерпывало определяемое, точно так же как всегда более рассудительные люди не соглашались с тем, что естественнонаучное определение мира исчерпывает мир. Бесспорно, мир есть естественнонаучная задача, но вместе с тем он есть и задача эстетическая, этическая и метафизическая. Это было признаваемо во все времена всеми людьми, дух которых не мог ограничиться тем, чтобы только скользить по поверхности вещей.
Никто не станет отрицать того, что естествознание выполнило только часть, и легчайшую часть, своей задачи: вышеупомянутые островитяне сделали бы еще очень мало для уяснения себе своего положения, если бы они даже в совершенстве исследовали свой остров; что же сказать о человечестве, не сделавшем ничего подобного относительно своего острова?
Мы обладаем крайне микроскопическими познаниями. Опытные наши науки еще очень далеки от состояния законченности, и можно сказать наперед, что в будущем наша наука будет разветвляться все больше и больше. Поэтому в настоящее время не может быть речи и о какой бы то ни было законченности нашей философии, нашего миросозерцания. Это следует уже из того, что необходимейшие для возведения здания миросозерцания явления природы – темнейшие и загадочнейшие. Обширнейшую область явлений природы обнимает и точнейшую картину их рисует нам астрономия, но объяснение одной внешней стороны природы представляет ничтожную философическую заслугу: теперь, как и прежде, созерцание небесных светил возбуждает в нас только чувство, мир же как был, так и остается для нас колоссальным вопросительным знаком. Обратившись к земле, увидим, что и здесь мы такие же ничегонезнайки. Яснее всего для нас область минералогии; но мы не можем извлечь из нее для себя никакой философической пользы; имеющая несравненно большую философическую цену биология полна загадок; человек же, это сложнейшее из всех явлений природы, – величайшая для нас загадка. Он никогда еще не был вполне определен с физиологической своей стороны; что же касается высшей его стороны, духовной, то психология представляет арену борьбы всевозможных, даже диаметрально противоположных мнений. Для одних психологов человек представляет кучу химических веществ, для других – эманацию Бога.
Но от психологии находится до некоторой степени в зависимости судьба всей философии: ведь человек может быть удовлетворительно объяснен только путем изучения его высших функций, a он – высшее явление природы, цвет, по меньшей мере известной нам, природы. Если же так, то философ, не изучивший предварительно, прежде, чем приступить к занятиям метафизикой, психологии, похож на ботаника, который захотел бы при объяснении фруктового дерева не обращать никакого внимания на его плод.