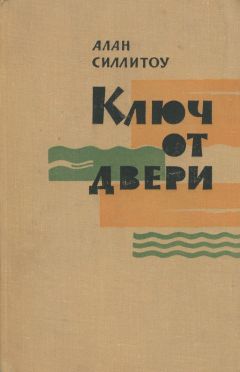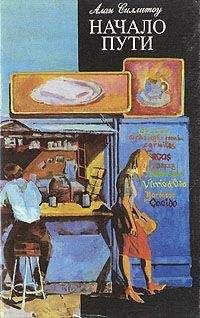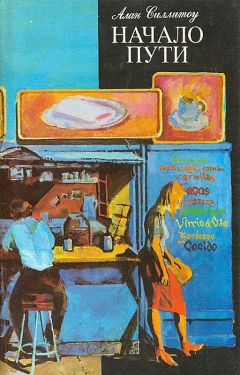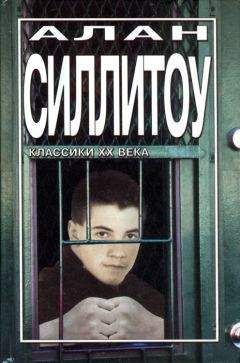Чья-то чужая лопата мелькнула перед его лицом и отбила кусочек кирпичной кладки, и вдруг где-то прямо перед ним в темноте загремел голос Билла Эддисона:
— Черт меня подери, если это не старина Брайн! Наконец-то мы покончили с этой дрянью!
Обняв друг друга, они хохотали, радуясь своей победе.
15
Сидя в пустой лагерной библиотеке за кружкой чаю, которую поставил около него на стол слуга-малаец, Брайн развернул полевую карту Пулау-Тимура. Из Сингапура прибыла новая группа радистов, наконец-то ему предоставили двухнедельный отпуск и отправили в лагерь отдыха в Мьюке. Он только что освежился под душем, и солнце еще не успело пропитать потом его одежду — на нем была безупречно белая рубашка и шорты, которые всего час назад принесла из стирки прачка-китаянка; палец его, скользнув от Муонга по береговой линии, остановился на Мьюке — окаймленном пальмами заливе напротив Гунонг-Барата, который отделен от него полосой воды всего в несколько миль, окрашенной в разные оттенки синего цвета. Прихлебывая чай, он блуждал глазами по карте: отпечатано в 1940 году, отметил он, исторический документ, и ему припомнился этот год — там, за холмами, вдали, словно айсберг, растаявший под вечным солнцем времени, — год, когда один за другим ушли в армию его двоюродные братья Колин и Дэйв, а потом через несколько недель вернулись обратно. Они вернулись у него на глазах, когда все уходили на войну, и, как ни странно, под молчаливым любопытством, с каким он смотрел на их гимнастерки, перекинутые через спинки стула, как шкуры убитых животных, скрывалось глубокое убеждение, что они поступили правильно и хорошо. Ада помогала им, и другие родственники тоже, потому что это отвечало их натуре и их традициям. Из десятка здоровых мужчин, связанных с их семейством узами близкого и дальнего родства, только двое, уйдя в армию, остались там, и один из них был убит в Тунисе. «А мы что говорили» — таков был приговор всех остальных, которые либо дезертировали, либо устроились на военных заводах. «Это, наверно, рекордная цифра для одного семейства, — подумал Брайн. — Никто не может сказать, что мы не внесли свой вклад в борьбу за свободу, хотя, что мне делать в этой стране, ума не приложу, только вот, конечно, войны тут сейчас нет».
Его мирок, да и весь мир вообще изменились с тех пор, и. конечно, пора было измениться, хотя собственная его жизнь была похожа на остров, оторванный от родного берега. Малайя, он чувствовал это, была лишь промежуточным звеном, и его ожидали какие-то голубые дали, как в той песенке, которая за последние полгода обошла всю страну, — песенке «За голубым горизонтом»; она звучала в кафе, ее насвистывали, напевали, ее звуки, точно сладкая отрава, текли из радиоприемников. В концертах по заявкам, передаваемых малайским радио, ее просили исполнить десятки слушателей — малайцы, китайцы, англичане, и так из недели в неделю, целое море имен, их было столько, что диктор даже перестал зачитывать эти бесконечные списки, а просто ставил пленку, и сладкая музыка лилась над страной. Много недель Брайн не мог от нее отделаться. Мотив то нравился ему, то казался отвратительным, но, сам того не замечая, он насвистывал его каждое утро, шагая к рубке по взлетной дорожке с бутылкой воды и продуктовым мешком, хлопавшим по ляжкам, и скрываясь на заросшем кустарником пустыре, уходя вдаль, в никуда, в беспредельность, над которой сверкал голубой горизонт.
Посреди пустыря расчищали квадратную площадку под новую радиорубку, и он должен был помогать двум механикам распаковывать огромные ящики, устанавливать стены и крышу, антенны. Они работали втроем целыми днями, голые до пояса, потемневшие от загара. Новая рубка по сравнению со старой казалась великолепным сооружением: будет стоять на сухом месте, туда проведут электрический кабель, который проложат под землей вдоль новой дороги, и грузовик сможет подъезжать к самым дверям. Заново оборудованная радиостанция, как говорили, будет работать круглосуточно, и дежурство тоже будет круглосуточное независимо от того, есть самолеты или нет, хотя Брайн понимал, что начальству, конечно, начхать, если ты поспишь час-другой в самые тяжелые предутренние часы. Разговоры о строительстве новой станции велись уже несколько недель, и вот теперь, несмотря на плохую погоду, им все-таки привезли установку и стали собирать ее по номерам и по плану так, словно собирали модель из детского конструктора. Была установлена и новая подстанция, а на взлетной дорожке появилось несколько радарных установок. Поговаривали даже, что заменят допотопную контрольную вышку каким-то сверхпрочным небоскребом. Взлетную полосу теперь ограждали на ночь. «Будто в военное время»,— подумал Брайн, почувствовав, как у него при этой мысли сжалось что-то внутри. Да и в лагере все теперь занятые, деловитые, здесь появилась какая-то совсем новая атмосфера, которой не было, когда он сюда прибыл, — словно все они тут не зря. Он заметил это и в столовой, когда зашел туда в обеденное время, и в уборной, куда забежал по дороге в душ, прежде чем идти к Мими, и во взводе связи, где теперь работало больше связных каналов, чем раньше, да и в той особой подтянутости, которой щеголяли теперь все, кто работал в штабном корпусе. Можно было подумать, что эта проклятая война уже началась, хотя он чувствовал, что главный его бой еще впереди — ему придется воевать против дисциплины, которую хочет навязать им штаб. Связистов, дежуривших посменно, это должно было коснуться в последнюю очередь: они были освобождены от маршировки и от караульной службы, им разрешалось приходить в столовую с опозданием, если они предъявляли бумажку, которую любой предприимчивый радист мог взять у офицера связи из стола и заполнить. И если дежурный офицер, обходя казарму поздно утром после подъема, интересовался, почему радист дрыхнет так долго, прикрывшись простыней, то можно было пробурчать из-под противомоскитной сетки, что он дежурил прошлой ночью, — тогда хоть не было особого шума. Нет, учиться семь месяцев, чтобы получить радистский значок, без сомнения, стоило.
Карта была несложная, и запомнить ее не составляло труда. Он откинулся в деревянном кресле, чтобы допить чай и спокойно дождаться, пока в одиннадцать подойдет грузовик, который должен отвезти всю их компанию к острову. Двухнедельный отпуск — это тоже уже кое-что, а потом он вернется и станет работать в новой радиорубке, а там уже он будет на борту корабля, рассекающего синие волны на пути в Англию. Время идет быстрее, если впереди есть что-нибудь приятное, а когда наступают приятные минуты, сразу замечаешь, что недели и месяцы ожидания безжалостно убиты, зачеркнуты намертво и в памяти от них ничего не остается, они как сморщенная змеиная шкурка, которую иногда отбрасываешь ногой с дороги.
«Все на борт» — эта крылатая фраза стала у них лозунгом освобождения; если б он летал на «остере» или на «тайгер-мосе», он написал бы ее в небе над зеленым склоном Пулау-Тимура, а пока довольствовался тем, что посылал ее в эфир морзянкой в сравнительно свободные часы ночного дежурства, только для того, чтоб услышать, как эти начальные буквы ВНБ повторял какой-нибудь полусонный радист в Карачи или Мингаладоне — трехзвучный след трехбуквенного символа, пропетого электрическими контактами под чьей-то рукой, хоть и далекой, но разбуженной движением его сердца. Томясь на «чертовом острове» действительной службы, каждый хотел удрать домой — бросить винтовку, гаечный ключ или ключ радиста, перо или поварешку и бежать что есть духу к первому же военному транспорту с синей каемкой на корпусе. Незаметные черточки мелом на стене за конками отсекали уже отслуженные месяцы, тут же была написана дата очередной демобилизации н отъезда, и со временем это стало казаться Брайну каким-то магическим преобразованием формул, которые помогут взорвать атомы, удерживающие на месте решетку их тюрьмы.
Он отгонял пустые мысли и надежды, слишком захваченный настоящим, чтобы мечтать о возвращении в Ноттингем. Нельзя сказать, чтоб его туда не тянуло, — ведь целый год до отъезда из Англии он был женат на Полин, и, чтобы она не скучала без него, он оставил ей ребенка. Но они успели прожить вместе всего несколько недель, так что настоящей семейной жизни у них по существу и не было. Писать письма она была не большая охотница, а год разлуки — слишком долгий срок, чтобы узы, привязывавшие его к ней, остались такими же крепкими. Он не мог делать пометки мелом на спинке кровати или на стене, хотя тоже знал с точностью до одного дня, что как ни крути, а десять месяцев здесь еще пробыть придется, но для того, чтоб обнажать перед всеми эти шрамы будущего, требовалась душевная энергия, которую он не хотел так легко тратить.
Его вдруг охватило мрачное беспокойство, и он готов был разнести в клочья этот длинный, тихий барак с полками книг, потому что не понимал еще причин этого беспокойства. Грохот грузовиков, огибавших расположение мотопехоты, и топот солдат, шагавших в гарнизонный клуб, не вывели его из задумчивости. «Как это чудесно, Брайн, — сказала Мими, когда он сообщил ей о своем двухнедельном отпуске. — У тебя с самого приезда не было отпуска». Он удивился: чему она так радуется? Ведь она должна скучать по нему так же, как он по ней. Но подозрения его всегда были недолговечны, и он успокоился, когда она, нежная, заботливая, приподнялась на постели и склонилась над ним для поцелуя. И вдруг им овладело слепое, неистовое желание сделать по-своему, ненависть к этому мертвенному спокойствию, которое словно затаилось в самом ее сердце. Он прижался губами к этим неподвижным губам, чтобы разжечь ее страсть, убивая при этом свою собственную.