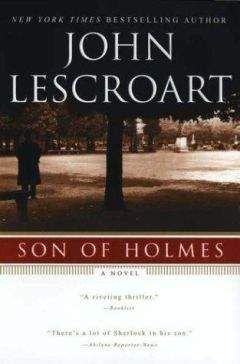на самом деле?
Ну конечно! Этого и следовало ожидать от Веласкеса! Я думаю, он стоит перед зеркалом. И вся картина – только отражение. Эзоп смотрит на самого себя. Сардонически, поскольку в мыслях он уже где-то в ином месте. Через минуту он обернется и присоединится к зрителям. Через минуту зеркало отразит пустую комнату – из-за стены будут иногда доноситься взрывы смеха.
* * *
Музей Прадо в Мадриде – уникальное место встреч. Его залы, словно улицы, заполнены живыми (посетителями) и мертвыми (персонажами картин).
Но мертвые не ушли из этого мира. «Настоящее», в котором они изображены, настоящее, придуманное художниками, не менее живое и густонаселенное, чем настоящее, проживаемое в это самое мгновение. Временами даже более живое. Обитатели вымышленных мгновений смешиваются с вечерними посетителями, и они все вместе – мертвые и живые – превращают залы в пеструю толпу, точь-в-точь как на барселонском бульваре Рамбла.
Вечером я отправляюсь в музей, чтобы отыскать Веласкесовых шутов. В них есть тайна: на ее разгадку я потратил целые годы и не уверен, что она мне открылась. Веласкес смотрел на них тем же скептическим, но не критическим взглядом, каким он смотрел на своих инфант, королей, придворных, служанок, поваров и послов, и писал их в той же технике. Однако между ним и шутами все непросто: тут есть некая важная – я бы сказал, заговорщическая – связь. И этот тайный, молчаливый сговор касался, как мне кажется, внешней стороны, то есть в данном случае собственно внешности, наружности персонажей. Ни они сами, ни Веласкес не позволяли внешности одурачить или поработить себя, наоборот, они играли с ней: художник – как мастер иллюзий, а сами они – как шуты.
Из семи придворных шутов, крупным планом написанных Веласкесом, трое – карлики, один косоглазый, а двое облачены в нелепые костюмы. Только один из шутов выглядит сравнительно нормально – Пабло из Вальядолида.
Дело шута – время от времени забавлять королевский двор и самих правителей, несущих на своих плечах тяжкое бремя власти. Ради этого шуты развивали и вовсю использовали свои клоунские таланты. Однако ненормальность их внешности также играла важную роль в том удовольствии, которое они доставляли зрителям. Само существование чудаковатых уродцев оттеняло утонченность и благородство тех, кто на них взирал. Их гротескные формы подчеркивали элегантность и статность хозяев. Властители и их отпрыски были перлами Природы; шуты – ее смешными ошибками.
Сами шуты об этом, конечно, хорошо знали. «Насмешки Природы» брали смех в свои руки. «Насмешки» могут ведь и подшутить над смеющимися, и тогда смеющиеся сами становятся смешны – такими «качелями» пользуются все лучшие цирковые клоуны.
Испанские шуты втайне смеялись над мимолетностью человеческой внешности. Внешность – не иллюзия, но нечто временное, преходящее и для перлов Природы, и для ее ошибок! (Мимолетность тоже может стать отличной шуткой: взгляните на уходы великих комиков.)
Больше всех мне нравится шут по имени Хуан Калабасас – Хуан Тыква. Он не карлик, он тот, у кого косоглазие. Веласкес оставил два его портрета. На первом шут стоит и с насмешливым видом держит в отведенной в сторону руке медальон с миниатюрным портретом. В другой руке у него некий загадочный предмет, который интерпретаторы не могут точно определить: что-то вроде большого пестика, а может быть, это просто намек на какое-то устойчивое выражение (вроде «дурня со ступой»), указывающее, что изображенный на портрете – дурачок. Во всяком случае, на это намекает его прозвище – Тыква. Опытный иллюзионист и портретист, Веласкес исподволь присоединяется к шутке своего героя: вы и правда надеетесь сохранить свою внешность на веки вечные?
На втором портрете, написанном позднее, Хуан изображен сидящим на полу, так что кажется не выше карлика. Он смеется и что-то говорит; особенно красноречивы его руки. Я смотрю ему в глаза.
Они странно неподвижны. Все лицо сияет от смеха – его собственного или того, который он вызывает, – но в глазах ни искорки; они неподвижны и бесстрастны. И это не следствие его косоглазия: я вдруг осознаю, что взгляды других шутов очень похожи. При всем различии в выражении глаз есть и нечто общее – застылость, непричастность к длительности всего прочего.
Такой взгляд мог бы указывать на полнейшее одиночество, но в случае с шутами это не подходит. У сумасшедших бывает застывший взгляд, потому что они потеряны во времени и не способны распознавать никакие ориентиры. Жерико в душераздирающем портрете безумной женщины из больницы Сальпетриер, написанном в 1819 или 1820 году, хорошо показал этот измученный, отсутствующий, отрешенный от хода времени взгляд.
Шуты, написанные Веласкесом, столь же далеки от «нормальных» портретов людей, демонстрирующих свое достоинство и статус, как и портрет безумной из Сальпетриера, но все же они другие, поскольку не потеряны и не исключены из общества. Они просто находят самих себя – после смеха – за пределами преходящего.
Неподвижные глаза Хуана Тыквы глядят на шествие жизни и на нас с вами через глазок Вечности. Вот в чем состоит тайна, открытая мною во время встречи на «бульваре Рамбла».
17. Рембрандт
(1606–1669)
В ближайшем пригороде Амстердама живет пожилой, очень известный и уважаемый голландский живописец. Всю свою жизнь он много трудился, однако создал, насколько известно, всего несколько рисунков и одно большое полотно, хранящееся в Национальном музее. Я приехал к нему посмотреть на его второе программное произведение – триптих о войне. Мы поговорили о войне, о старости, о призвании художника. Затем он открыл дверь своей мастерской и посторонился, пропуская меня вперед. Огромные полотна сияли белизной. После многих лет работы в день нашей встречи он хладнокровно уничтожил их. Второе программное произведение, труд жизни, так и не было завершено.
Соль этой истории в том, чтобы показать, до какой степени нечто, сильно отдающее кальвинизмом, определяет голландское искусство даже в наши дни. Сам по себе кальвинизм как религия препятствовал развитию искусства, и всем виднейшим голландским художникам приходилось сражаться с ним. Тем не менее все они испытали влияние кальвинизма, зачастую превращаясь в моралистов и экстремистов. Их главным сражением – как в случае с моим другом – была битва с собственной совестью.
Вильгельм Валентинер написал интереснейшую статью о том, что и Рембрандт, и Спиноза (а они, по мнению автора, несомненно встречались), каждый по-своему, были вынуждены бороться с официальной церковью. [55] Как раз в том месяце, когда Рембрандт был объявлен банкротом, Спиноза – тогда еще студент – был изгнан из общины раввинами его синагоги. Позднее Спинозу официально осудил кальвинистский