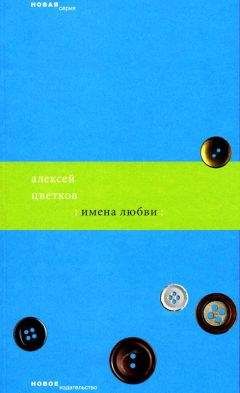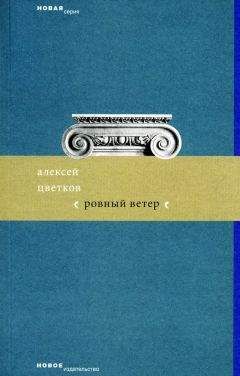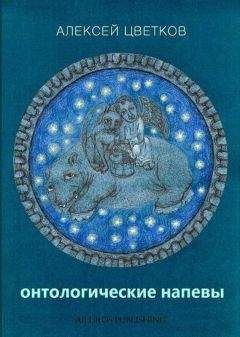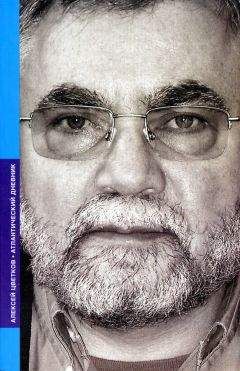Так что вы сами себя, ребята, а не только покупателя, наебали.
Не бывает никакой экспертизы!
Он понял это и громко смеялся. Ты демонстративно похрапывал, досадуя о том, что в любом праздном вранье оказывается слишком много скрываемой правды.
Пишешь Майклу, названия еще нет, может быть: Заяц
В квартире на столе гипнотически уродливая диковинка. Из нефрита либо из мутного стекла. Поджавший ноги человек в смиренной позе. Из-за обритой головы его выглядывает вторая такая же голова. Я подошел. Оказался резиновый заяц. Оранжевый. Ушастый.
— Мой сын, — пояснила Лена — глядя вместе со мной на игрушку, — в детском саду сегодня до пяти.
Я поставил ушастого на место. Вернулся в кресло. Двуглавый монах спокойно и взыскательно выглядывал сам из-за себя, слушая наш разговор. Я полистал комикс. Отдельные страницы склеены детскими соплями. Почему обязательно детскими? Банальное допущение. Слишком много таких допущений в голове. Они делают мысли быстрыми и стандартными. Как у всех. Почему обязательно у всех? Совсем не у всех. Еще одно банальное допущение. Не могу представить себе места и обстоятельств, в которых я не делал бы таких допущений.
Выслать это, про зайца, Майклу? Или не надо? — задавался ты, спускаясь от Лены в лифте. В «Либертариат» вроде только выдуманное подходит. Хотя в последнее время просачивается из памяти все больше. И кажется, что не туда отсюда, из жизни, просачивается, а наоборот, из ненаписанного, но где-то уже имеющего место текста капает сюда, к тебе. Или это и есть проклятие? Ты вышел из ее подъезда. Заклейменный.
У Акулова правдоподобия ради должна быть другая память.
Без вот этого вот советского метро. Но Майкл не возражает. 11
Вот тебе четвертое упражнение: смоги, закрыв глаза перед сном, вообразить себя со стороны. Как ты расположен в комнате, что вокруг за предметы? Если это получается, представь себя, смирно лежащего, внутри квартиры. Кто и как живет в других комнатах? Потом внутри дома: кто в других квартирах? Внутри улицы, района, города, страны, материка. На всей поверхности третьей от солнца планеты. На обочине галактики. Все время увеличивай масштаб взгляда, обязательно продолжая видеть себя. Успех не в реализме, а в яркости и деталях этого внутреннего мультфильма.
Ранняя Пасха в Крылатском. Снег на северной стороне холмов со сглаженными вершинами. Бирюзовая вверху и цементная снизу церковь с колокольней. Три двухсотлетних тополя. Очередь к плащанице — у всех на лицах есть подвижническое. Откуда? Это потому, что стоять в очереди, не зная точно, зачем и куда, и не интересоваться, это и есть подвижничество, самодостаточный, непрактичный жест. Бледнокаменные лица, веснушки, серые пустые глаза нуждающихся в чуде. Наманикюренная щепоть летает ото лба к груди. Рядом крестится ребенок изумрудно-зелеными пальцами. Вчера красил яйца вечными порошками. Все наклоняются, а он встает на цыпочки, целовать золотую книгу. Тяжелые жуки и пер-вые шмели в воздухе, как замедленные пули, носятся к сладкой медовой вербе и обратно. Милиция остервенело крутит железку, засунутую в морду своей советской машины. Не заводится. Один из милиционеров махнул безнадежно и пошел наперерез велосипедисту. На велосипедах здесь, оказывается, нельзя.
Ветер быстро листает на лотке «Святое Евангелие», «Молитвослов», «Жизнь во Христе», «Чудесные истории из жизни святых», «Великий мученик». Некоторые на старославянском, с черным и красным шрифтом. Жадно перелистывает, будто ищет нужное, а его там и нет, или промахивается всегда. Так ты ищешь лекарства от проклятия, обшаривая праздник глазами, надеясь, что само как-нибудь избавление на себя укажет. Лампадное масло в пластиковых бутылках. Гжелевые яйца, глиняные светочи, восковые свечки, из одной мальчик пытается изобразить сигару. Синяя колокольня — бутылка для святой воды. Представляешь в ней рыбку. Задаешься, кому сгодился бы непрозрачный аквариум. Только тому, кто берет его для себя, а не для других, собирается в нем обитать.
По обе стороны от церкви столы, накрытые шуршащей на ветру клеенкой. У столов толпятся дети, девушки, мамаши и бабушки, выставив перед собой куличи и выложив разноцветные яйца. Ветер пробует катать их и ловят, каждая — свое. Взрослых мужчин поменьше. Только интеллигенты с седыми вихрами, но очень рыхлого, скорее бабского вида. Кидают мелочь и кладут яйца к обходящему всех с корзиной блондинистому служке в серебристом облачении. Выходит поп с кучерявой, черной, веселой бородой, машет метелкой на улыбчивых и жмурящихся женщин. Капли нимбом взлетают над ним, и кажется на миг, что ветер принес дождь.
Некоторые пробуют зажигалками затеплить свечечки, поставленные в куличах — никак, дует уж очень. Птицы волнуются и кричат, кружа над двухсотлетними тополями. Парень, спешившись с велосипеда, с каждым порывом оглядывается на ноги стоящей у кулича девки. Ее длинная юбка разлетается всякий раз гораздо выше колен, открывая черные «чешуйчатые» колготки. Русалка, — приписываешь ты велосипедисту свои мысли, — раз в год на Пасху подводный царь дает ноги, а уж юбка какая нашлась. Лунная капля на пальце в серебряной оправе видна тебе вместо ее лица. Утопленница.
— Я не знаю, идти ли к причастию, там кагор, а я ведь закодированный от алкоголя, — советуется с незнакомой, но участливой прихожанкой сорока- примерно -летний в тренировочном костюме. Ты услышал его, потому что не знаешь тоже: идти или не идти. Может ли кагор воздействовать на черную электронную почту? Сотрет ли он пятно, как стирает ладонь испарину со стекла? Блаженная мимо очереди пробирается в церковь с кошкой на руках. У кошки скрыты уши, морда замотана носовым платком. По этой перевязанной голове всем видно: кошка, а не кот. Сама блаженная тоже в платке. Знает, как надо.
«И этот сладковатый запах / И этот золотистый мрак / У алтаря на задних лапах / Стоишь и смотришь, как дурак / И ничего не понимаешь / В старославянском торжестве / Как будто с кем-то ты играешь / Как будто с кем-то ты в родстве / И населенный тесно, дружно / Многоэтажный дом икон / И ты не знаешь, что же нужно/ Чтоб здешний разгадать закон? / Скопировать повадки / Остаться на постой / Влюбиться в голос сладкий / И в воздух золотой» — сочинял и не записал ты давным-давно, когда для всех вдруг стал важен «Серебряный век».
Молящийся вне храма — вот один из переводов твоей фамилии. По дороге назад, изучая во рту слюну и думая, какого она стала бы вкуса, если б выстоял очередь, увидел Шуру. В церкви он расслышал: «Слава суициду и святому духу!» У него был с собой, и он показал свой недавний рентгеновский портрет — явственная трещина в черепе и православный крест на шее сияли в загадочной тьме. Отказался в лучевом кабинете снимать распятие, имитируя фанатизм, усугубленный как раз этой трещиной. Ты вспомнил один из первых таких снимков: невесомый прозрачный череп фрау Рентген в жемчужном ожерелье, похожем на второй позвоночник.
— Почему так? — риторически спросил Шура. — Читаешь- читаешь нечто смешное, Аверченко там, Довлатова, и ни разу не улыбнешься, а зачешется вдруг бровь или глаз ни с того ни с сего, и хохочешь, как мудак?
«Археолог» — назвал он попрошайку, вынимавшего монеточку из жидкой земли. Обочина нищих, уже успевших загореть. Один сидит спиной к идущим с куличами. Нищий, который ничего не просит.
Рисуемые по-прежнему прячутся от себя. Прячут друг друга, пока ты шуршишь настольной мышью, в глянцевые карманы ртов. Черные овалы голов хочется нарисовать так, чтобы их нельзя было точно сосчитать. Выдувают друг друга из ничегожности. Стеклодувы.
Приказываешь себе срочно покончить с личными и слишком оттого узнаваемыми впечатлениями в прозе Акулова. После букв М, рдеющих у метро зимними вечерами, и революционных статуй, исчезнувших из своих ниш, Майкл перестанет тебе верить, а точнее, делать вид перестанет, что верит тебе, акуловскому сочинителю. Ему нужны «сны Евича». Он интересуется, обрывается или нет эта линия в акуловских рукописях? Ты от него зависишь. И пишешь от имени Акулова вот что: Комета
— Комета изменила воду, — сказал мне человек в ночном поезде.
— Комета?
— Ну, метеорит, — не стал настаивать попутчик, — точнее, ме-те- о-ри-ты, множественные останки. Была такая же ночь, как сейчас. И вдруг похоже на брызги, на огненные ошметки, на кого-то, кто сначала летел к нам один, а потом вдруг разбился о невидимый свод, прозрачный, твердый, и превратился в армию. Во все стороны полетел.
— И что?
— Источники отравлены. Теперь съедутся все, как вы, на курорт пить воду, но вода-то ныне иная. С кометой смешанная.
Шизик — прожужжало у меня в голове.
— Не то что-то будет. Так что вы не пейте. Уезжайте в другое место. И никому особенно не говорите. И себя сбережете, и не запишут вас в сумасшедшие.
Ему было выходить. Состав нехотя замедлялся. Кроме нас в вагоне все спали. Заранее, чтоб не прыгать на ходу, он поднялся и пошел в тамбур. Не обернувшись, не взглянув на меня, без «до свиданья!» Оставив блестеть на столе овальные сливы, купленные час назад на такой же платформе. Я надеялся видеть странного попутчика в окно, но там прошел только парень с фонарем в руке, да звал кого-то через усилители женский вокзальный голос.