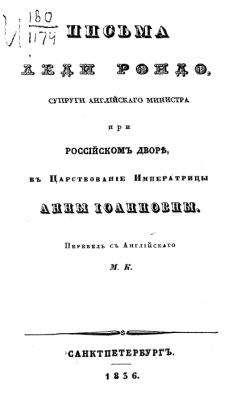Были неудачи. Но было и много побед. Они покупались напряженной творческой работой Николая Николаевича.
Было непонятно, откуда бралась неистощимая энергия у этого человека.
К первой репетиции готов режиссерский экземпляр пьесы. В его фантазии образы живут, и он эту жизнь вливает в исполнителя ему одному известными приемами. Он умеет излучать из себя творческую энергию. Его требования четки, и он точно знает, чего хочет и что можно извлечь из художественных ресурсов того или иного работника.
Он вытравляет все безвкусное. Он храбро верит в молодые силы своих учеников.
Он находит время для отдельных внерепетиционных уроков.
Только своим авторитетом – без штрафов и иных взысканий – он создает стойкую дисциплину.
Он не считается со своими личными отношениями. Каков бы ни был в его глазах моральный вес актера, если он талантлив, ему представляются полные творческие возможности.
И все вокруг него заражается его энергией и по мере сил своих творит радостно и бодро.
И вырастают выразительные полнокровные спектакли»[13].
Шатрова, несмотря на свою молодость, была очень требовательной как к себе, так и к другим и невероятно педантичной. Любая мелочь, любое отклонение от обычного порядка выводило ее из сценического настроя. В середине июля труппу без предупреждения покинула молодая взбалмошная актриса Чеботарева, игравшая в «Камо грядеши» роль младшего брата Лигии по имени Авгий. Кроме субтильной и невысокой Чеботаревой больше никто из труппы Авгия сыграть не мог. Синельников предложил совсем убрать эту малозначительную, если не сказать – ничего не значащую роль из спектакля. Авгий был непонятно зачем придуман драматургом, переделавшим роман Сенкевича в пьесу. Не иначе как ему захотелось добавить в свое творение еще один сентиментальный штришок в виде прелестного малютки, только и всего.
Шатрова возмутилась и заявила, что без Авгия она играть не сможет. Раз уж в пьесе он есть, то должен быть и на сцене.
– Где я вам возьму Авгия?! – в свою очередь возмутился Синельников. – Ладно бы еще дело было в Харькове. Там несложно найти замену, но в Екатеринославе да в разгар лета я не представляю, где ее искать. Разве только прикажете взять с улицы первого попавшегося мальчишку…
– Возьмите девочку, Николай Николаевич, – предложил присутствовавший при разговоре Иван Романович. – Моя Танечка может играть Авгия. Она справится, не сомневайтесь. Сыграет не хуже Чеботаревой. Роль я с ней подготовлю за один вечер. Она у меня смышленая, схватывает все на лету.
– Пусть играет! – махнул рукой Синельников.
Шатрова скептически поморщилась, но выбора у нее не было. Или бери того Авгия, которого дают, или играй без него.
Узнав о том, что завтра ей предстоит выйти на сцену городского театра, Таня не могла поверить своему счастью. Готовить с ней роль не было необходимости, потому что она не раз смотрела спектакль. Утром следующего дня она выступила перед Синельниковым и была допущена на сцену.
Несмотря на великое волнение, обуревавшее Таню, сыграла она хорошо. По сцене ходила на цыпочках, чтобы казаться выше, обе свои реплики подала вовремя, слова произносила так громко, что было хорошо слышно и в последнем ряду. Все остались довольны, в том числе и Шатрова. Когда актеры выходили кланяться, Шатрова взяла Таню за руку, но на сцене перевозбужденная девочка вырвалась, выбежала вперед и провалилась в пустую суфлерскую будку, потому что смотрела не под ноги, а на аплодирующих зрителей. Можно представить ее состояние – первая роль, первый выход на сцену, первые аплодисменты…
– Это был самый блистательный провал на моей памяти, – пошутил Иван Робертович, имея в виду Танино падение в будку.
Таня играла Авгия до конца гастролей. Ей хотелось, чтобы эти гастроли никогда не кончались, но в сентябре труппа вернулась в Харьков, где Синельников сразу же взял в труппу новую субтильную гризетку. Тане он заплатил столько, сколько полагалось Чеботаревой, и даже округлил эту сумму в пользу юной актрисы так, чтобы она получила ровно десять рублей. Расчет был обставлен по-взрослому (Синельников понимал детей). Он пригласил Таню в свой кабинет, дал расписаться в ведомости и торжественно вручил ей новенькую, приятно хрустящую красно-серую десятирублевку.
Отец предложил вставить кредитный билет в рамку и повесить на стену – пусть висит на счастье и на память, но мать не согласилась.
– Деньги должны лежать в банке, а не висеть на стене, – сказала она.
До банка дело не дошло, деньги истратили на повседневные нужды. Тане же мать купила большую коробку «бормановских»[14] шоколадных конфет. Коробка была жестяной, и Таня сохранила ее на память о своем первом выступлении. Сохранила и повсюду возила с собой как талисман. Складывала в нее свои немногочисленные драгоценности и особенно памятные вещи.
Чемодан, в котором лежала заветная коробка, у Татьяны украли осенью 1941 года в поезде, шедшем из Москвы во Фрунзе[15]. Воры орудовали на остановках. Высматривали тех, кто выходил из вагонов, и крали их вещи. Пока заметят пропажу да поднимут шум, поезд уже отойдет от станции. Пассажиры, прежде чем выйти, просили соседей приглядывать за их вещами, но дело было рано утром, все соседи спали, и Татьяне было неловко их будить. Она понадеялась на то, что выходит ненадолго, но, вернувшись, не увидела на месте одного из двух своих чемоданов.
Больше всего было жаль не содержимого коробки, а ее саму. Такое впечатление, будто украли саму память о прошлом.
Глава третья
Прямая и ясная перспектива
Я сегодня с утра весела,
Улыбаются мне зеркала,
Олеандры кивают в окно.
Этот мир восхитителен… Но
Если б не было в мире зеркал,
Мир намного скучнее бы стал…
Ирина Одоевцева, «Я сегодня с утра весела…»
Таня надеялась, что Синельников даст ей новую роль. Она целыми днями пропадала в театре, пыталась как можно чаще попадаться ему на глаза, но Синельников только учтиво раскланивался с ней, как со взрослой, да вскользь осведомлялся о самочувствии. Отец посмеивался (ему нравился энтузиазм дочери) и говорил, что по Высшей воле все случится в предопределенный час. Иначе говоря – уймись, егоза. Какие твои годы? Еще успеешь послужить Мельпомене.
Еще успеешь… Вкусив настоящего актерства, Татьяна уже не могла терпеливо ждать. Ей хотелось играть сегодня, сейчас, а не когда-то в будущем. Разыгрывание пьес перед зеркалом уже не удовлетворяло ее. Что за скука – все сама да сама и аплодировать некому.
– Вот пойдешь в гимназию, и вся эта блажь сразу же выветрится, – «успокаивала» мать.
В гимназию Тане совершенно не хотелось – скучно. К тому же гимназисткам нельзя посещать театры, цирки и прочие увеселительные заведения без разрешения начальства. А уж играть на сцене и подавно нельзя.
Иван Романович очень любил своих детей. Понимая, что Татьяна бредит сценой, он горел желанием ей помочь и ждал очередного подходящего случая. Такой случай представился в ноябре 1913 года. На одной из первых репетиций «Дворянского гнезда» актриса, которой досталась роль Шурочки, крупно повздорила с Синельниковым.
Синельникову не нравилось, как она играет. Он поднимался на сцену и показывал, как следует играть Шурочку. Актриса повторяла, но у нее каждый раз выходило плохо. Наконец, не выдержав потока упреков, она, вспылила и наговорила Синельникову дерзостей. Синельников, не терпевший в свой адрес фамильярности и неуважения, взъярился и увел актрису прямо с репетиции в кабинет, где произвел с ней немедленный расчет.
Иван Романович, игравший в постановке роль Михалевича, предложил Синельникову на роль Шурочки Таню. Синельников согласился. Так юная Таня получила вторую роль.
– Тургенев – это классик! – строго сказал ей отец. – У него, что ни герой, то образ. Помни, что на сцену выходит Шурочка. Танечка должна оставаться за кулисами. Старайся как следует, иначе Николай Николаевич не даст тебе больше ролей. Он человек добрый, но если на ком-то из актеров крест поставит, то это уж навсегда. Его любимая поговорка – «ум можно нажить, а талант – нет».
В отличие от первой роли, которую Таня сыграла без репетиций с труппой, Шурочку приходилось репетировать. Понимая, что ребенка нельзя долго мучить ожиданием, Синельников прогонял сцены с участием Тани первыми. Но, закончив, она не уходила. Садилась в дальний уголок, стараясь, чтобы ее не заметили, и наблюдала за тем, как идет репетиция. Было очень интересно, потому что Синельников объяснял, чего он хочет от актеров, очень подробно и хорошо показывал. На сцене он преображался без грима и костюмов, словно по мановению волшебной палочки. Взмахнет рукой – и превращается в Лизу, шумно вздохнет – и вот он уже не Лиза, а Гедеоновский. Таня всегда доверяла отцовскому мнению о людях, но только на репетициях «Дворянского гнезда» она поняла, почему отец отзывается о Синельникове с таким восхищением. Актером Николай Николаевич был незаурядным. Впрочем, как и режиссером.