Его охватили отвращение и ненависть к чувственности. Он томился по чистоте, по пристойной мирной жизни, а между тем вдыхал воздух искусства – теплый, сладостный, напоенный ароматами воздух непреходящей весны, в котором все движется, бродит и прорастает в тайном блаженстве созидания, Так вот и получилось, что он, безудержно кидался из одной крайности в другую,– от ледяных вершин духа к всепожирающему пламени низких страстей, все же вел изнурительную жизнь, жизнь распутную, неумеренную и беспорядочную, которая ему самому внушала отвращение.
«Какой ложный путь!– думал он временами.– Как могло случиться, что я пустился во все эти нелепые приключения? Я ведь не цыган из табора, а сын…»
Но в той же мере, в какой слабело его здоровье, изощрялось его писательское мастерство; оно становилось все более изысканным, привередливым, отшлифованным, тонким, нетерпимым к банальному и до крайности чувствительным в вопросах такта и вкуса. На первое его выступление в печати одобрительно и радостно отозвались те, кого искусство затрагивало за живое, ибо это было отлично сработанное произведение, полное юмора и проникновения в человеческие страдания. И в скором времени его имя, которое так брезгливо выговаривали учителя, то самое, которым он подписывал свои первые стихи, обращенные к орешнику, к фонтану, к морю,– имя, в звуке которого сочетались Юг и Север, бюргерское имя, чуть тронутое налетом экзотики, стало синонимом высокого подвига труда, ибо к болезненной остроте впечатлений он сумел прибавить редкостное долготерпение и честолюбивое усердие. Это усердие, боровшееся с прихотливой изощренностью вкуса, помогало Тонио Крёгеру, пусть в нестерпимых муках, создавать прекрасные произведения.
Он работал не так, как работают люди, для того чтобы жить,– нет, ничего, кроме работы, для него не существовало, ведь как человек он ни во что себя не ставил и значение свое усматривал лишь в творчестве; в жизни же бродил серый и невзрачный, точно актер, только что смывший грим,– ничтожество вне театральных подмостков. Тонио Крёгер работал молча, замкнуто, неприметно для чужого глаза, полный презрения к малым сим, для которых талант не более как изящное украшение, кто независимо от того, богат он или беден, ходит растрепанным и оборванным или щеголяет немыслимым галстуком, думает только, как бы посчастливее, поприятнее, «поартистичнее» устроить свою жизнь, не подозревая, что хорошие произведения создаются лишь в борьбе с чрезвычайными трудностями, что тот, кто живет, не работает и что, собственно, надо умереть, чтобы творить великое искусство.
–Я не помешаю?– спросил Тонио Крёгер с порога мастерской.
Держа шляпу в руке, он стоял, почтительно склонившись, хотя Лизавета Ивановна была его другом и у него от нее не было никаких тайн.
–Помилуйте, Тонио Крёгер, зачем эти церемонии!– отвечала она с характерной для нее отрывистой интонацией.– Кому не известно, что вы получили хорошее воспитание и умеете вести себя в обществе!– С этими словами она переложила кисть в левую руку, в которой держала палитру, протянула ему правую и, покачав головой, со смехом взглянула ему прямо в глаза.
–Да, но вы работаете,– отвечал он.– Позвольте мне посмотреть.
О, вы изрядно продвинулись!– И он стал попеременно рассматривать эскизы в красках, прислоненные к спинкам стульев по обе стороны мольберта, и большой расчерченный квадратными клетками холст, где на фоне путаного, схематического наброска углем уже возникали первые красочные пятна.
Это было в Мюнхене, на Шеллингштрассе. Мастерская помещалась в верхнем этаже здания, стоявшего в глубине двора. За широким окном, глядевшим на северо-запад, царила синева небес, птичий щебет; солнце; юное сладостное дыхание весны, лившееся сквозь открытое окно, мешалось с запахом фиксатива и масляных красок, наполнявшим обширную мастерскую. Золотистый вечерний свет, не встречая преград, заливал нагие просторы мастерской, без стеснения освещал выщербленный пол, загроможденный кистями, тюбиками с краской и всевозможными бутылочками, некрашеный стол, этюды без рам на неоклеенных стенах, обветшавшую шелковую ширму неподалеку от дверей, за которой виднелся изящно меблированный уголок – спальня и одновременно гостиная, начатую картину на мольберте и смотревших на нее художницу и писателя.
На вид ей, как и ее другу, было лет тридцать с небольшим. В темно-синем, перепачканном красками рабочем халате она сидела на низеньком стуле, подперев кулачком подбородок. Ее каштановые, стянутые в тугой пучок и чуть тронутые сединой волосы мягкими волнами ложились на виски, обрамляя смуглое, бесконечно привлекательное лицо славянского типа, со вздернутым носом, широкими скулами и маленькими черными сияющими глазами. Напряженно, взволнованно и недоверчиво щурясь, она вглядывалась в свою работу.
Тонио стоял подле нее; правой рукой он уперся в бок, а левой – быстро теребил свой каштановый ус. Его разлетные брови хмуро и нервно двигались; по обыкновению, он тихо что-то насвистывал. Одет он был чрезвычайно тщательно и солидно в превосходно сшитый костюм спокойного серого цвета. Его изборожденный трудом и мыслью лоб, на который так просто и аккуратно ложились расчесанные на пробор волосы, нервно подергивался, а типично южные черты лица, со временем обострившиеся, казались высеченными резцом, но его рот был нежно очерчен и мягко вылеплен подбородок… Точно очнувшись, он провел рукой по лбу, по глазам и отвернулся.
–Не надо было мне приходить,– сказал он.
–Почему ж это, Тонио Крёгер?
–Я только что встал от работы, Лизавета, и в голове у меня как на этом вот холсте: бледный контур, весь исчерканный поправками набросок и два-три красочных пятна. Прихожу сюда – опять то же самое. Все конфликты и противоречия, замучившие меня дома, я вижу и здесь,– добавил он и потянул носом воздух.– Странная это штука! Если ты одержим какой-то мыслью, то она подстерегает тебя на каждом шагу, даже в воздухе ты чуешь ее запах. Фиксатив и аромат весны. Искусство,– так ведь? А что второе? Только не говорите «природа», Лизавета; «природа» – не исчерпывающее понятие. Нет, надо было мне идти гулять, хотя еще вопрос, лучше ли бы я себя почувствовал. Пять минут назад уже около вашего дома я встретил коллегу, новеллиста Адальберта. «Черт бы побрал эту весну,– заявил он своим обычным агрессивным тоном.– Всегда она была и будет самым гнусным временем года! Ну, скажите, Крёгер, приходит ли вам на ум хоть одна разумная мысль, можно ли спокойно обдумать хоть одну деталь и учесть ее воздействие, когда у вас непристойнейшим образом зудит что-то в крови и вас одолевает уйма всяких посторонних впечатлений, которые при ближайшем рассмотрении оказываются ни на что не пригодной пошлятиной? Я лично сейчас отправляюсь в кафе. Это, знаете ли, нейтральная зона, которую не затрагивает смена времен года, отрешенная и, так сказать, возвышенная сфера искусства, где тебя осеняют лишь значительные мысли…» И он отправился в кафе; мне, наверно, следовало пойти вместе с ним.
Лизавета слушала и смеялась.
–Очень хорошо, Тонио Крёгер. «Непристойнейший зуд» – это очень хорошо. И по-своему он прав, работа весной не слишком спорится. Ну, а сейчас вы увидите, как я все-таки закончу одну деталь и «учту ее воздействие», как сказал бы Адальберт. А потом мы перейдем в «гостиную» нить чай, и вы сможете выговориться; я ведь вижу, что вам сегодня необходимо расстрелять свой заряд. А пока устраивайтесь где-нибудь, хоть на том вон ящике, если вы, конечно, не боитесь за свои патрицианские одежды…
Ах, оставьте в покое мои одежды, Лизавета Ивановна! Не разгуливать же мне в драной бархатной блузе или в красном шелковом жилете?
Человек, занимающийся искусством, и без того бродяга в душе. Значит, надо, черт возьми, хорошо одеваться и хоть внешне выглядеть добропорядочным… Да и заряда у меня никакого нет,– добавил он, глядя, как она смешивает краски на палитре.– Я ведь уже сказал, что только эта дилемма, это непримиримое противоречие сводят меня с ума и мешают мне работать… О чем мы, собственно, говорили? Да, о новеллисте Адальберте и о том, какой он гордый и решительный человек. Объявил, что «весна – гнуснейшее время года», и отправился в кафе. Ну что ж! Надо знать, чего хочешь. Так ведь? По правде говоря, весна и мне действует на нервы, и меня сбивает с толку чарующая тривиальность воспоминаний и ощущений, которые она вызывает к жизни; только я не решаюсь презирать и ругать ее за это, и потому не решаюсь, что мне стыдно перед ее чистой непосредственностью, победной юностью. И я не пойму, завидовать мне Адальберту или смотреть на него свысока за то, что он ничего этого не знает…
Что правда, то правда, весной работа не ладится. А почему? Потому что обострены все чувства. Ведь лишь простак полагает, что творец-художник вправе чувствовать. Настоящий и честный художник только посмеется над столь наивным заблуждением дилетанта – не без грусти, быть может, но посмеется. То, о чем мы говорим, отнюдь не главное, а безразличный сам по себе материал, и, лишь возвысившись над ним, бесстрастный художник возводит все это в степень искусства. Если то, что вы хотите сказать, затрагивает вас за живое, заставляет слишком горячо биться ваше сердце, вам обеспечен полный провал. Вы впадете в патетику, в сентиментальность, и из ваших рук выйдет нечто тяжеловесно-неуклюжее, нестройное, безыронически-пресное, банально-унылое; читателя это оставит равнодушным, в авторе же вызовет только разочарование и горечь… Так! И ничего тут не поделаешь, Лизавета! Чувство, теплое, сердечное чувство, всегда банально и бестолково. Артистичны только раздражения и холодные экстазы испорченной нервной системы художника, надо обладать какой-то нечеловеческой, античеловеческой природой, чтобы занять удаленную и безучастную к человеку позицию и суметь, или хотя бы только пожелать, выразить человеческое, обыграть его, действенно, со вкусом его воплотить. Владенье стилем, формой и средствами выражения – уже само по себе предпосылка такого рассудочного, изысканного отношения к человеческому, а ведь это, по сути, означает оскудение, обеднение человека. Здоровые, сильные чувства – это аксиома – безвкусны. Сделавшись чувствующим человеком, художник перестает существовать. Адальберт это понял, а потому и отправился в кафе, в «возвышенную сферу»,– да, да, это так!
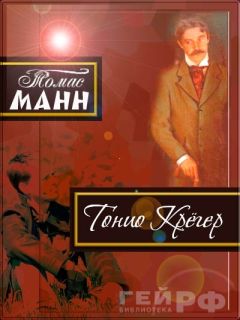


![Томас (Пауль Томас) Манн - Ранние новеллы [Frühe Erzählungen]](https://cdn.my-library.info/books/135154/135154.jpg)

