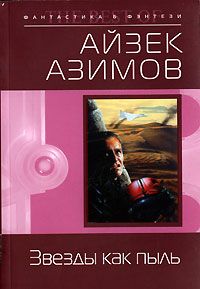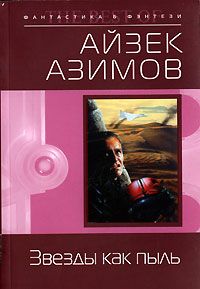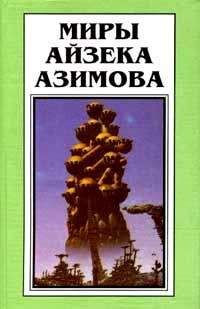***
Однажды Насреддину приснилось, что он едет в поезде и сочиняет эпическое произведение в стихах о своём путешествии. Поэма была настолько прекрасна, что, проснувшись, Насреддин бросился к столу, чтобы поскорее записать её, но как только взял в руки перо, выяснилось, что в памяти не осталось ничего, кроме четверостишия, где жизнь сравнивалась с василиском, чей взгляд можно испытать на себе лишь однажды. Поразмыслив здраво, Насреддин решил, что ни ему самому, ни потомкам эта печальная истина совершенно ни к чему, и записывать не стал, но отправился спать снова — в надежде, что на этот раз снов не будет.
Я ничего не чувствую, говорит она, я, наверное, умерла. Она щиплет себя за нос и подходит к зеркалу — проверить, покраснел ли нос. Нос покраснел, и было больно, но что это доказывает? Краснеют ли мертвецы? Бывает ли им больно? Кто знает…
Я ничего не чувствую! Я ничего не чувствую! — говорит она громко. Из соседней комнаты выходит мать и смотрит на неё круглыми глазами.
Вызвать «скорую»?
Это поможет? Я ничего не чувствую. Я совсем ничего не чувствую. Я умерла или, по крайней мере, тяжело заболела.
Я вызову «скорую», говорит мать. Я уже вызываю.
Я не чувствую, что ты вызываешь. Я тебя не чувствую. Ты тут?
Тут, говорит мать, разве ты не видишь? Прикоснись ко мне. Я тёплая?
Ты тёплая. Кожа у тебя пересохшая. Тебе нужен крем для рук. Но я этого не чувствую.
Может, это зима? — спрашивает мать. Или месячные? Я не буду вызывать «скорую». Если я вызову «скорую», это обойдётся нам в состояние.
Я не чувствую, что это обойдётся нам в состояние. Сделай что-нибудь.
Пойдём на улицу, говорит мать.
И они выходят на улицу. На улице погода. Холодно. Автомобили. Велосипедисты. Собаки. На улице очень громко.
Автобусы едут. Пахнет бензином. Деревья. Низколетящие самолёты. Тель-Авив. Люди говорят. Смеются.
Перекрикивают автомобильные гудки. Орут. Надрываются.
Я ничего не чувствую, кричит она, совершенно ничего не чувствую.
Этого не может быть, возражает прохожий.
Может, настаивает она. Ещё как может. Вас я тоже не чувствую.
Кто сказал, что меня нужно чувствовать? Вам хорошо меня видно? Слышно? Разве этого не достаточно?
Боже мой, говорит она, неужели так было всегда? И мать отвечает: конечно! И прохожий отвечает: конечно!
Так было всегда.
Подглядывать — очень стыдно. Так ему говорили. Это стыдно. Не подглядывай.
Да, это стыдно, соглашался он, и — подглядывал.
Его били. Его лечили. Его выгнали из школы. Габи, знаешь, кто ты такой? — сказала учительница математики. — Ты — вампир. (Ладно, я вампир, будь по-вашему.) Отвернись. У меня мурашки по телу.
Ты любишь смотреть на раздевающихся женщин? — спросил его доктор.
Я люблю смотреть на раздевающихся женщин, люблю смотреть на одевающихся женщин, люблю смотреть на женщин в любом виде. На мужчин. На детей. И на собак люблю смотреть (латентная зоофилия, пишет доктор).
И на звёзды. И на траву. Я люблю смотреть на дома и на бациллы под микроскопом. Люблю смотреть на маму, когда она курит. На папу люблю смотреть, хоть он этого и не любит. На рыбок в аквариуме. На луну. На солнце я тоже люблю смотреть, но долго нельзя, можно ослепнуть.
Понимаешь, ласково говорит доктор, люди не любят, когда на них смотрят. Особенно ночью. Особенно когда тот, кто смотрит, прячется в темноте. Это очень страшно. Ты понимаешь?
Я понимаю. Люди не смотрят друг на друга.
Ты можешь смотреть днём.
Этого они тоже не любят. Они спрашивают: чего уставился? Они вообще не любят, когда на них смотрят.
Поэтому я прихожу ночью. Я научился быть незаметным. Нахожу укромное местечко — напротив окна. Дерево или куст. Меня не видно. Мне видно всё. Люди приходят и уходят. Едят. Спят. Живут. Они говорят. Мне не слышно, но я догадываюсь, о чём они говорят. Они занимаются любовью (это красиво). Они плачут. Они ругаются (я не люблю, когда ругаются, и сразу ухожу). Они ковыряют в носу. Они танцуют перед зеркалом. Они выдавливают угри.
Я смотрю.
Они любят себя, и это — красиво. Иногда они любят других, не так, как себя, по-другому. Я смотрю, потому что — красиво. Трава разрешает смотреть. Муравьи разрешают смотреть. Однажды я видел змею. Я смотрел, и змея была не против.
Не понимаю, почему люди не хотят видеть друг друга. Доктор, может, они заболели?..
На перекрёстке улицы Алленби и бульвара Ротшильд — киоск, хозяйчик — старый румынский еврей, неумный и жадный, с неожиданно трагическим взглядом и горестно опущенными уголками рта — как у чьей-то посмертной маски.
Через дорогу — русский книжный магазин, где нет новых книг, но есть билеты на Киркорова.
Каждый день в два часа пополудни филологическая дама питерского разлива с неизменной «беломориной» во рту запирает дверь магазина, пересекает дорогу, берёт в киоске бутерброд с яичницей и присаживается на первую, ближайшую к перекрёстку лавочку на бульваре.
Хозяин киоска появляется в окошке и наблюдает её трапезу.
Раз в тридцать секунд над их головами пролетает самолёт, идущий на посадку в аэропорт Бен-Гурион.
Из здания центрального отделения банка Ьапоалим выбегают галстучные клерки.
Повсюду снуют посыльные, неся на сгибе локтя мотоциклетный шлем, и в свободной руке — папку или большой типографский конверт.
Женщины переходного возраста входят в салат-бар «Природа». Полуголые арабские хлопцы с отбойным молотком.
Охранники в страшных чёрных очках, с переговорными устройствами.
Автобусы и автомобили.
Нажми на паузу или украдкой выруби звук: никто ничего не заметит.
Посреди ночи она поднимается в постели и напряжённо смотрит в темноту. Что это было?
Где?
Вот это. звук. Звук?
Ну, может, не звук, а запах. А может, и не запах… может, подземный толчок. или бесшумный взрыв. а может — картина сорвалась со стены или хлопнула дверца холодильника. или кто-то позвал по имени.
Рахель опускает ноги на пол и шарит в темноте. Нужно найти тапочки. Море совсем рядом. Ночью или поздним вечером, когда на дорогах и улицах — штиль, здесь слышно море.
Она долго возится с оконной защёлкой, пытаясь понять, в чём загвоздка, почему фрамуга не поднимается: ах, ну конечно! Зима! В этом всё дело. На зиму фрамугу запирают. Окно не откроется. Нужно выйти на улицу.
Рахель накидывает халатик, думая о том, что наверняка будет холодно, но это и к лучшему: холод заставит вернуться домой раньше, чем она успеет простудиться.
Но на улице не просто холодно, на улице — мороз. Она и не знала, что по ночам Тель-Авив бывает безлюден. Ни единого автомобиля, ни пешехода, даже киоски, которые обычно работают круглосуточно, закрыты. Светофоры мигают в пустоту — красный, жёлтый, за ним — зелёный.
Рахель послушно ступает на «зебру» пешеходной дорожки и быстрым шагом идёт по направлению к набережной, подбирая реющий на ветру халат, пытаясь натянуть рукава на запястья и спрятать пальцы. Воздух вырывается изо рта и превращается в тускло мерцающий пар. Она семенит мимо витрины парадного, похожего на авианосец, отеля и мельком заглядывает внутрь. У стойки — ни души. А ведь можно войти и украсть пальму… хо-хо!.. почему бы и нет… я бы несла её по городу — вертикально, на вытянутых руках: как трофей! Как тотем!
Она бежит к морю, на цыпочках — как балерина на котурнах, тщетно пытаясь отсрочить мгновение, когда тапочки наполнятся ледяным песком до краёв, продолжая бормотать вполголоса.
Просыпаться под краденой пальмой и завтракать свежими финиками — не о том ли мечтала я всю свою жизнь?..
Волна откусывает от берега. Фотограф в мокром дождевике тщетно пытается поймать в объектив линию горизонта (ртуть и свинец), его пёс-лабрадор задирает морду, приседает, взрыхляя песок задними лапами, подпрыгивает и лает, и машет хвостом, думая, что небо играет с ним, то приближаясь, то отдаляясь, то спуская себя сверху на ниточке — как конфету.
Пенсионер в спортивных трусах и вязаном свитере ковыляет по мокрому песку, стараясь не наступать на обрывки целлофана, принесённые морем, ноги его — в цыпках, от холода.
— Николай Исаич, вы, конечно, извините, но ваш Рамануджа супротив Гегеля — мелкий говнистый поц.
— Хаять чужое, Коленька, — дело неблагодарное. Где Гегель и где Рамануджа? А главное — когда? Подайте вон тот мешочек, будьте любезны… Вы бы ещё Мерло-Понти впиндюрили…