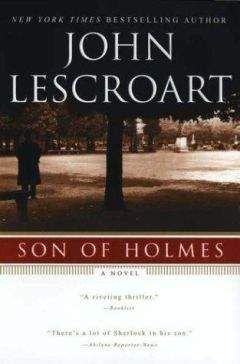означала только упорное нежелание стыдиться самого себя, теперь могла опереться на признание извне.
В то же время подлинники Милле начинают скупать американские старики-миллионеры, ведь им так хочется вновь поверить, что все лучшее в жизни отмечено простотой и свободой.
Как же оценить это неожиданное явление новой темы в старом искусстве? Надо подчеркнуть, что в своих сознательных намерениях Милле оставался в рамках той традиции, которой он наследовал. Он писал медленно, используя сделанные с натуры наброски, и часто возвращался к одному и тому же мотиву. Выбрав в качестве объекта изображения сельского труженика, он всю жизнь старался воздать ему должное, наделяя его живописный образ достоинством и надежностью. И тем самым Милле примыкал к традиции, восходящей к Джорджоне, Микеланджело, голландским художникам XVII века, Пуссену, Шардену.
Поглядите на его работы, расположив их в хронологическом порядке, и вы увидите, как крестьянин в буквальном смысле выходит из тени. Из тени, из угла, куда по традиции загоняли жанровую живопись – «картины низкой жизни» (сценки в кабаках, в помещениях для прислуги и т. д.): на них мимоходом, снисходительно, а подчас и с завистью бросает взгляд путешественник, едущий по просторной и светлой большой дороге. «Веятель» все еще остается зажатым в этом «углу», хотя место несколько расширилось. «Сеятель» – призрачная фигура на странной, как будто незаконченной картине – решительно шагает вперед, чтобы завоевать себе пространство. Примерно до 1856 года Милле писал и другие жанровые полотна: пастушки в тени деревьев, женщина, сбивающая масло, бондарь в своей мастерской. Но уже в 1853 году появляется картина «На работу»: мужчина и женщина идут из дома на поле, где им предстоит трудиться весь день. Их фигуры написаны по образцу «Адама и Евы» Мазаччо: выдвинуты на передний план и образуют центр мира, подразумеваемого картиной. И с этого времени то же будет происходить на всех главных полотнах Милле, в которых есть человеческие фигуры. Вместо того чтобы представить эти фигуры на периферии изображения, как сугубо второстепенные, едва ли не случайно попавшие в поле зрения художника, Милле изо всех сил старается сделать их центральными и монументальными. И все эти картины – каждая в разной степени – терпят неудачу.
Причина неудачи состоит в том, что люди и их окружение не образуют единства. Монументальность фигур вступает в противоречие с общим строем картины, и наоборот. В результате эти искусственно акцентированные, словно наложенные на фон фигуры выглядят какими-то застывшими, театральными. Мгновение длится слишком долго. И наоборот, те же фигуры на рисунках или гравюрах, сделанных на тот же сюжет, кажутся живыми и полностью принадлежат тому моменту, когда их запечатлели вместе с их окружением. Так происходит, например, с гравюрой «На работу», выполненной на десять лет позже, чем исходное полотно. Это воистину великое произведение, сопоставимое с лучшими офортами самого Рембрандта.
Что же мешало Милле достичь таких же высот в живописи? На этот вопрос нам обычно предлагают два альтернативных ответа. Первый такой: говорят, что в XIX веке эскизы в своем подавляющем большинстве были всегда лучше, чем соответствующие им законченные полотна. Это весьма сомнительное искусствоведческое обобщение. Второй ответ прост: Милле не был рожден живописцем!
Мне кажется, что Милле терпел неудачу потому, что язык традиционной живописи не удавалось приспособить к теме, которую он привнес в искусство. Это можно объяснить идеологически. Неразрывная связь крестьянина с землей, получающая выражение в его действиях, несовместима с «живописным» ландшафтом. Большинство европейских пейзажей (хотя и не все) адресовано визитеру-горожанину – позднее таких назовут туристами; пейзаж дается его глазами, великолепие пейзажа – это его награда. Парадигма пейзажа – что-то вроде нарисованной красками карты местности, на которой обозначены все видимые с данной точки обзора достопримечательности. Теперь представьте, как где-то между нарисованной картой и реальным видом местности вдруг возникает крестьянин, занятый своим повседневным трудом, – и внутреннее противоречие станет очевидным.
В истории форм открывается сходное несоответствие. По мере развития в искусстве сложились различные иконографические схемы, позволявшие интегрировать в композицию человеческие фигуры и пейзаж. Отдаленные фигуры как нотки цвета. Портреты, в которых пейзаж играет роль фона. Мифологические герои, разные богини и прочие подобные фигуры, с которыми природа сплетается в «танце под музыку времени». [83] Драматические фигуры – природа вторит их страстям, иллюстрирует их. Путник или одинокий наблюдатель, который озирает пейзаж, являющийся, по сути, его альтер эго. Но схемы, позволявшей представить тяжкий, кропотливый физический труд крестьянина на земле, а не на фоне пейзажа, попросту не существовало. Придумать такую схему означало разрушить традиционный язык изображения «живописного» ландшафта.
Именно это и попытается сделать Ван Гог через несколько лет после смерти Милле. Милле был его любимым художником, как по духу, так и по творческим устремлениям. Ван Гог десятками писал картины, образцом для которых служили гравюры с работ Милле. В этих картинах Ван Гог связывал фигуры работающих крестьян с их природным окружением через характер и энергию своих мазков, а энергию порождало глубокое, искреннее сопереживание.
Однако в результате живопись превратилась в исключительно личный взгляд, который характеризуется особым «почерком» художника. Свидетель оказался важнее свидетельства. Тем самым была открыта дорога для экспрессионизма, а потом и для абстрактного экспрессионизма и в конце концов – для разрушения живописи как языка объективного фигуративного искусства. Таким образом, творческую неудачу Милле можно в исторической перспективе рассматривать как поворотный пункт. Стремление к универсальной демократии было неприемлемо для масляной живописи. И последовавший за этим кризис смысла привел к тому, что живопись стала по преимуществу автобиографической.
Почему же это стремление не было столь же неприемлемым для рисунка и графики в целом? Рисунок фиксирует визуальный опыт. Масляная живопись из-за ее необыкновенно широкого диапазона тонов, текстур и цветов претендует на воссоздание видимого. Разница огромна. Виртуозный мастер живописи собирает все аспекты видимого, чтобы привести их к одной точке – точке зрения эмпирического наблюдателя. А это равносильно утверждению, что такой взгляд и есть видимое. Графическая работа с ее ограниченными средствами заведомо скромнее: она претендует лишь на изображение одного-единственного аспекта визуального опыта и, следовательно, может быть адаптирована для разных целей.
Милле в конце жизни все чаще обращался к пастели, и его пристрастие к приглушенному свету, в котором сама видимость становится проблематичной, его завороженность ночными сценами – все говорит о том, что интуитивно он, вероятно, пытался сопротивляться позиции привилегированного наблюдателя, реорганизующего видимый мир в соответствии с собственным взглядом. Это соответствовало бы симпатиям и предчувствиям Милле: разве тот факт, что изображению крестьянина не нашлось места в европейской живописной традиции, не предвещал неразрешимого конфликта интересов между первым