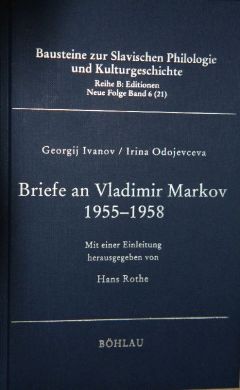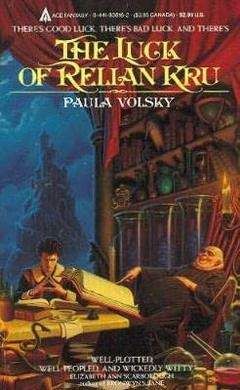Простите за каракули — лежу в саду.
Кроме этих я написала 75 строк. Такое длинное, что трудно переписать.
Beau Sejour 29 августа <1957 г.>
Дорогой и милый Владимир Федрович,
Письмо Ваше я получила в день выхода из госпиталя — оттого что «Друг мой, я болен, Я очень болен»[120], как писал Есенин незадолго до смерти.
Вот и со мной случилось. И такая странная, почти непонятная болезнь. Слава Богу, не «алкоголь», но все же не многим лучше. У меня малокровие, осложненное еще и отсутствием белых кров<яных> шариков. Их, видите ли, надо иметь не меньше 5000. А у меня неполных 2000. И это чрезвычайно опасно. Попросту грозит смертью при малейшем инфекционном заболевании, напр<имер> гриппе. И почти не существует средств вылечиться (при нашем отсутствии средств в особенности). В госпитале лежала на исследовании. Пришлось и мне познакомиться с больничной койкой — О Господи, и это пережить, И сердце на клочки не разорвалось[121]. Но — passons. Письмо Ваше я читала «затуманенными глазами». У меня жар каждый вечер — 39. Читала не все, а урывками — ведь неясно без книг, что к чему. Увидела: «Не люблю взволнованно-синих вечеров. Не люблю детских профилей… (Tant pis pour moi[122].) Тоже больше бы остроты… Об этом писать роман — бульварный… Неинтересно, но конец не вышел… Истерика начинает надоедать… Это банально в самой сути…» И ainsi de suite[123] «я такого не люблю». «Не сердитесь». Нет, я совсем не рассердилась. Но со вздохом уронила письмо на одеяло. — Жоржик, Марков обложил меня по всем швам. И от грусти и слабости уснула, не дочитав. Когда же проснулась, Г<еоргий> В<ладимирович> мне сказал: «Неправда, ему очень нравятся твои стихи. Очень нравятся».
Не знаю, кто прав. Но знаю, что Вы меня поразили, Вас удивляет «скучно», Вас, петербуржца? Невероятно. У нас даже старшая горничная говорила про поломойку: «Деревенщина, барышня, эта Паша. Скушно ей, да скушно. По-столичному и выражаться не научилась». А когда я, в защиту этой Паши, объяснила ей, что в Московском худож<ественном> театре на сцене говорят «скушно», она только пожала плечами; «И пускай их в Москве, а у нас в Питере лошади засмеют». Что совершенно, в сущности, правильно. В «нашем» Петербурге говорили скучно. Скушно было абсолютно невозможно и неприлично.
В первый раз увидела бездну между нами — Вашим и нашим поколением, на которой Вы настаивали и которая ускользает от моего взора. «Все чисто для чистого взора»[124]. Ан не все… вижу, что ошибалась. Споткнулась о «скушно». И таких «скушно», наверное, еще не мало, хотя я их и не замечаю.
Когда, наконец, придут мои книжки, займусь серьезной сверкой «наших взглядов на женский долг и мужскую честь» (Веселкова-Кильштет[125], чтобы Вы не ломали головы). А пока могу только сказать, что Г<еоргий> В<ладимирович> никогда ни малейшего влияния на мои стихи не имел. Влияние же мое на его стихи было «потрясающе-огромное», до невероятия. О чем он Вам как-нибудь и сам поведает. И об Ахматовой тоже вспоминать не стоит. Гумилев и Чуковский приводили меня в пример, что и «поэтесса» может расцвести абсолютно самостоятельно, вне Ахматовой, и ничем не быть ей обязанной — суметь быть ее антиподом.
Впрочем, я очень люблю Ахматову, несмотря на творческое отталкивание от ее тем и интонаций.
Так вот, милый друг. Спасибо за разбор. Жду с нетерпением книжки. Все сличу и кое в чем уличу себя — или Вас.
Бедный Г<еоргий> В<ладимирович> совсем потерял голову от страха за меня. Мне очень грустно за него. Вы, так любящий Вашу жену, наверное, посочувствуете ему и пожалеете его. Только не пишите ему об этом. Я и так верю, что Вам нас обоих жаль.
Но Г<еоргий> В<ладимирович>, несмотря на всю тоску, написал несколько отличных стихотворений. А Вы? У него больна жена — у Вас черный щенок. Как это отражается на творчестве?
Теперь о помощи Г<еоргию> В<ладимировичу> — т. е. о сборе, предпринятом Вами[126]. Спасибо. Увы! деньги нам нужны еще острее, чем прежде, с тех пор, как я заболела. Не только для него, но и для меня. Мне пришлось оборвать все мои заработки, и получилась зияющая дыра в бюджете. К тому же меня, хоть слегка, подлечивать необходимо. О настоящем лечении, конечно, не может быть и речи — о поездке в горы и проч. Но все-таки надо получше питаться и покупать кой-какие лекарства. Так что еще и еще спасибо Вам. Когда будете посылать деньги, то, пожалуйста, пришлите чек такой, как расплачиваются между собой американцы в Америке — в письме. Не делайте переводов ни в какой форме — ни по почте, ни чеком на Францию (даже на американский банк). А то мы теряем по 100 фр<анков> на доллар. Американский же чек меняется, как наличные доллары.
Желаю Вам удачи в продаже В<ашего> дома.
Сердечный привет Вам и В<ашей> жене и всем В<ашим> собакам. Пусть Вам всем будет хорошо.
И.О.
<На полях:> Г<еоргий> В<ладимирович> грозится написать Вам. Но когда?
Beau Sejour 10 сентября <1957 г.>
Дорогой Владимир Федрович,
Ну как могло случиться, что Вам показалось, будто бы Вы меня огорчили и обидели? Как?
Я прекрасно поняла и только в шутку прикинулась огорченной. Огорчила меня всего лишь невозможность узнать, что Вы хвалите, что нет. Да и чуть-чуть-чуточку «Не люблю детских профилей». Ау меня как раз был таковой — большой лоб и слишком короткий нос. Но я опять шучу. Впрочем, Вы бы лучше подцепили меня за встречающийся в следующей строке такой затрепанный «детский рот». А «детских профилей» и в стихах, и в жизни не так уж много. Илия ошибаюсь?
Но вот в чем я не ошибаюсь, так это в «И скучно, и грустно». Но, друг мой, как Вы можете? Ведь для нас это просто святотатство, а для Вас — «по-приказчишьи». Нет, нет и нет. От актерского «скушно» меня только в пьесах Островского не коробит. Значит, правда Ваша — кое в чем нам друг друга не понять. Мне за Лермонтова больно. Но Вы, кстати, и не так его любите.
Возвращаясь к Вашей критике — Вы мне ею доставили большое удовольствие. Когда придет «Контрапункт», проштудирую его с Вашим письмом. Мне очень интересно, что Вы находите в моих стихах — иногда обратное тому, что я. И за влияние Ахматовой как бы я могла обижаться? Я ее страшно ценю. Но, к моему сожалению, я не умею поддаваться влияниям, а как бы иногда хотелось. В прозе еще кое-что удается «стащить», а в стихах никак. Вот только у Моршена тюленя похитила, но и он превратился в чайку[127]. А насчет интонаций и ритмов… Я иногда нарочно читаю вслух Тютчева — а когда же, о Господи, я на него похожа?.. Это не от самостоятельности совсем, напротив — я чужие поправки с удовольствием присваиваю — если случается! Вот Г<еоргий> В<ладимирович> сочинил «Печальнее печального, Банальнее банального»[128] — всю первую строфу. И еще «Разбиваются души о счастье, Разбиваются птицы о снасти». Но самое замечательное — но это даже Моршену не говорите — он целиком сочинил «В этом мире любила ли что-нибудь ты?» и только потом мне подарил за ненадобностью. А я взяла. С благодарностью. И даже в антологии[129] оно имеется, что уже напрасно.
Теперь я хочу Вам сказать, как я Вам соболезную и как мне жаль бедного маленького Блэки. Я так хорошо Вас понимаю. Я и сейчас еще, через столько лет, не могу равнодушно вспомнить о своем Орлике. Но Вам все— таки легче — он был у меня один, а у Вас все-таки отличное собачье семейство — и Фига, и Бубка, и еще третья, имя которой я не знаю. Впрочем, утешение идиотское, вроде — у вас еще трое других детей! Но желающий утешить беспомощно хватается за соломинку — Соломинка, Соломка, Саломея[130] — и распахивается дверь и открывается путь поэзии, на который Вы так упрямо отказываетесь снова ступить. Впрочем, путей у Вас много. Я сейчас очень больна и говорю немного как из au de la[131]. Я, лежа в постели, перечла Вашего «Моцарта» и наново восхитилась им. Вполне и до конца.
Жаль только, что невежественный читатель не всегда создает себе правильное впечатление. Так о «Noces de Figaro»[132] он не узнает, что музыканты, ошалев от восторга, ломали свои скрипки и проч., аплодируя и крича во всю глотку: «Viva, viva il grande Mozart!»[133] — на репетиции, и что премьера была триумфом, и что «Noces» были сняты с репертуара происками Сальери[134] и кабалы, чтобы «не утомлять певцов вызовами и бисированием арий». И жаль, что Вы не отметили чудесного месяца в Праге[135] у графа Туна, где Моцарт захлебывался славой и признанием — и где не только в театре труппой Bondini, но в каждой кофейной и харчевне ежедневно распевались «Noces».
Раз Вы отметили «пинок гр. Арко», то как не вспомнить и о триумфах. Впрочем, Вы, может быть, правы — всего все равно не расскажешь. А вот о его собаке, похороненной с ним, я узнала от Вас. Я знала, что она следовала за гробом, но что она умерла от горя и ее сбросили в его могилу — за это Вам спасибо.
Как видите — я со всем согласна в В<ашей> статье. Кроме, пожалуй, того, что Моцарта в России не знали[136]. По личному опыту, ведь в капле отражается весь океан, — у нас, в нашей семье, происходило то же, что и тысяче подобных ей. По вечерам мама, в шуршащем, перетянутом в талии платье, с пышной высокой прической, распространяя запах духов, от которых у меня кружилась голова и раз действительно даже сделалось дурно (таких крепких духов после Первой мировой войны уже не стало), садилась за рояль и играла. Играла Моцарта, Шопена, Грига, Чайковского, Брамса. Но для меня Моцарт был не сравним ни с кем — и такой же ребенок, как я. «Моцарт пяти лет»…