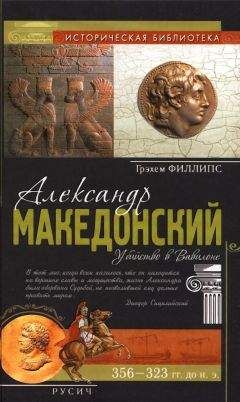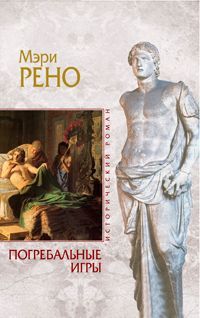Его ум не был способен к масштабной оценке происходящего, что позволяло ему не впасть в отчаяние. Он жил одним днем. Часто, например, выражал свое недовольство приносившему еду человеку, и тот иногда отвечал, причем не с издевкой, а мрачно, как несправедливо обвиненный слуга, объясняя, что он лишь выполняет приказы. Эвридика считала неприемлемым для себя вступать в подобные разговоры, тюремщик же стал постепенно выказывать все большую склонность к общению, порой заключая беседу присловьями о непредсказуемых поворотах судьбы. Однажды он даже спросил Филиппа, как там его жена. Филипп, взглянув на Эвридику, ответил:
— Она не велит говорить.
Проводя половину дня в полудреме, Эвридика не могла уснуть ночью. Филипп громко храпел, а ее наряду с паразитами терзали черные мысли. Однажды утром, когда они оба уже бодрствовали с подведенными от голода животами, она сказала ему:
— Филипп, я заявила о твоих правах на трон. Но на деле хотела править сама. Моя вина в том, что тебя заперли здесь, моя вина, что тебя били. Ты можешь убить меня? Я не возражаю. Если хочешь, я подскажу тебе, как сделать это.
Но он только захныкал как большой ребенок:
— Это солдаты во всем виноваты, они меня выбрали. Александр говорил, что мне нельзя быть царем.
Она задумалась. «Мне нужно просто отдавать ему хлеб. Он возьмет с радостью, если я сама предложу, хотя и не хочет меня лишиться. Тогда я, конечно, умру быстрее». Но когда подошло время кормежки, она не смогла превозмочь голод и съела свою долю. С удивлением она осознала, что кусок хлеба стал больше. На следующий день он стал еще больше, хлеба уже хватило на то, чтобы отложить часть его на скромный завтрак.
Наряду с этим сделались громче голоса караульных. Раньше солдатам, должно быть, приказывали держаться от темницы подальше: агитаторские способности узницы были прекрасно известны. Их приходы и уходы определяли только границы временных интервалов. Но дисциплина явно ослабла, стражи теперь свободно болтали и сплетничали; вероятно, им надоело всерьез охранять замурованный хлев. Потом как-то ночью, когда Эвридика лежала, глядя через оконное отверстие на единственную звезду, раздались тихие шаги, звякнул металл, скрипнула кожа. Отверстие на миг потемнело, и на подоконнике появились два яблока. Даже один их запах казался божественно вкусным.
После этого там каждую ночь стало появляться какое-то угощение. Стражники уже почти не таились, словно начальство смотрело на это сквозь пальцы. Никто из них не задерживался намеренно, чтобы поговорить прямо возле окна, такая расхлябанность безусловно могла привести и на виселицу, но часовые обменивались мнениями так громко, будто хотели, чтобы их услышали. «Ничего не поделаешь, мы люди служивые и лишь выполняем приказы, нравится это нам или нет». «Мятежники они ил и не мятежники, но всему есть предел». «Чрезмерное высокомерие богам не по нраву». «Да уж, и, судя по всему, их терпению скоро придет конец».
Хорошо разбиравшаяся в оттенках людских настроений Эвридика чувствовала, что за этими словами скрывается что-то важное. Эти солдаты не были заговорщиками, они просто судачили о том о сем, как любые уличные прохожие. Она подумала: «Видно, не только мы стали жертвами этой мегеры. Похоже, ее действия возмущают многих. А что, интересно, они имели в виду, сказав, что терпение богов скоро закончится? Возможно, Кассандр уже идет на север…»
Ночью им принесли фиги, сыр и кувшин разбавленного вина. Здоровая пища прогнала остатки апатии. Эвридика понемногу начала грезить об освобождении, о македонцах, с жалостью взирающих на их мерзостное узилище и требующих расплаты, о дне триумфа, когда она, умытая, одетая и коронованная, вновь займет трон.
* * *
Внезапный уход Кассандра на север вызвал некоторое смущение. Его покинутым на Пелопоннесе союзникам предстояло одним противостоять македонцам, возглавляемым сыном Полиперхона. Когда отчаянные курьеры догнали марширующие колонны, Кассандр только сказал, что у него появилось неотложное дело.
Демократично настроенные жители Этолии заняли оборонительную позицию на перевале у Фермопил. Кассандр не нашел в этом вызове ничего романтичного. Более практичный, чем Ксеркс, он силой прибрал к рукам все, что сновало туда-сюда по оживленному проливу, отделявшему остров Эвбея от материка, и обошел по морю опасный горный проход.
В Фессалии его дожидался сам Полиперхон, по-прежнему преданный отпрыску Александра, несмотря на кровавое самовластие Олимпиады. Но Кассандр опять уклонился от битвы. Оставив часть своих войск сдерживать Полиперхона, он упорно вел основные силы на северо-восток и, обогнув громаду Олимпа, вскоре подошел к Македонии.
Перед ним высилась береговая крепость Диона. Через послов Кассандр пообещал начальнику гарнизона покончить с женским неправедным самоуправством и вернуть страну в русло древних традиций. После краткого секретного совещания ворота крепости распахнулись. Там Кассандр обосновался со всей обстоятельностью, начал устраивать приемы, благосклонно выслушивая всех, кто предлагал ему поддержку или сообщал полезные сведения. Многочисленные родственники жертв Олимпиады, как и уцелевшие от расправы солдаты, предпочли присоединиться к нему, исполненные обиды и требующие возмездия. Но и недавние противники мало-помалу превращались в его сторонников. Они говорили теперь, что никому, кроме Александра, не по силам обуздать нрав этой женщины. Эти тайные союзники, вернувшись в Пеллу, распространяли слухи о замечательных планах Кассандра и о его справедливом намерении стать регентом сына Роксаны.
Однажды он сподобился спросить у одного из таких посетителей:
— А когда они схватили дочь Аминты, как она умерла?
Лицо собеседника прояснилось.
— По крайней мере, у меня есть для тебя одна добрая новость. Когда я уходил, она была еще жива, и Филипп тоже. С ними обращаются ужасно, замуровали в мерзком свинарнике, народ возмущен. Как я уже сказал, условия, в каких они находятся, столь жуткие, что даже охранники прониклись к ним жалостью и стали понемногу облегчать им участь. Если ты поспешишь, то еще сможешь спасти их.
Лицо Кассандра на мгновение застыло.
— Какое унижение! — воскликнул он. — Олимпиаде следовало бы более обходительно обращаться со своей удачей. Но смогут ли они продержаться так долго?
— Можешь рассчитывать на это, Кассандр. Я потолковал с одним из их стражей.
— Спасибо тебе за добрые вести. — Не вставая с кресла, Кассандр подался вперед и произнес с неожиданным воодушевлением: — Пусть все узнают, что я намерен восстановить справедливость. Царственным узникам вернут все титулы и все звания. Что же касается Олимпиады, то я передам эту особу в руки царицы Эвридики, чтобы та наказала ее, как сочтет нужным. Так и передай людям.
— С удовольствием передам, все обрадуются, услышав твои заверения. Если удастся, я даже пошлю весточку и в темницу. Пусть царь и царица вздохнут с облегчением, узнав наконец, что у них появилась надежда.
Он удалился с сознанием важности своей миссии. А Кассандр созвал военный совет и сообщил, что выступление откладывается на несколько дней. Надо дать время нашим друзьям, пояснил он, собрать побольше сторонников.
* * *
Через три дня Эвридика сказала:
— Какое-то странное затишье! Не слышно даже болтовни караульных.
Первые рассветные лучи заглянули в низкое оконце. Ночь выдалась холодная, и мухи пока не проснулись. Узники хорошо подкрепились тем, что принесла им ночная стража. Охранники, как обычно, сменились перед рассветом, но смена произошла совсем тихо, и сейчас в темницу не доходило ни звука, свидетельствующего о чьем-то присутствии. Неужели эти добрые малые, взбунтовавшись, бросили пост? Или их призвали на защиту городских стен, что могло означать лишь одно — наступление войск Кассандра.
Она сказала Филиппу:
— Скоро нас освободят, я чувствую это.
Почесав в паху, он спросил:
— И тогда я смогу вымыться?
— Да, мы примем ванну, переоденемся во все чистое и наконец-то по-человечески выспимся.
— А мне вернут мои камушки?
— Конечно, твоя коллекция даже пополнится.
Зачастую в их тесном узилище Эвридика едва могла выносить соседство своего царственного супруга. Его вид, его запах вызывали неодолимое отвращение. Ее раздражало, как он ест, как отрыгивает, как справляет нужду. Она с удовольствием поменяла бы его на собаку, но все-таки сознавала, что ей следует быть терпимой к нему. Нужно собрать в кулак всю свою выдержку, если она намерена вновь пристойным образом вернуть себе власть. Поэтому она редко ругала его, а когда ругала, то потом сама же и утешала. Он никогда не дулся на нее долго, всегда все ей прощал или, возможно, просто забывал об обидах.
— Когда же нас выпустят?
— Как только победит Кассандр.
— Слышишь? Кто-то идет.
И верно, послышались шаги. Судя по звукам, подошли три или четыре человека. Они стояли у двери, но их не было видно через отдушину, заменявшую в этой каморке окно. Из тихого разговора Эвридика не смогла понять ни слова. Потом внезапно раздался звон, не узнать который было уже невозможно. Кто-то бил киркой по стене, закупорившей вход.